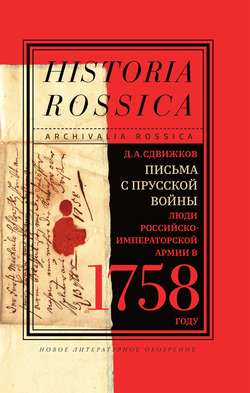Читать книгу Письма с Прусской войны - Денис Сдвижков - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Введение[1]
«Безпримерное происшествие»
1 акт: Prussac idiot[285] . Синие начинают и проигрывают
Оглавление«Настал, наконец, сей достопамятный день!»[286] В три ночи Фридрих поднимается со своего кресла в комнатке на Нойдаммской мельнице (десятилетия спустя тогдашний мельник предпочтет не отдавать это кресло в музей, так как желает, чтобы «патриотическая реликвия» стала его смертным одром)[287]. «Доброе утро, господа! Поздравляю, баталия выиграна!» – обращается король, нахлобучивая шляпу, к своим спутникам (скорее всего, впрочем, и это из репертуара «легендарной» истории. Звучит слишком красиво, да и в аутентичных источниках не упомянуто). Затемно, полчетвертого утра 25 августа, пруссаки выступают тремя колоннами, сопровождаемые местными лесничими, которые показывают дорогу на узких лесных тропах, восполняя несовершенство карт[288]. От такой информации может зависеть исход баталии: незнание местности под Франкфуртом привело к ошибкам в диспозиции Фридриха и стало одной из причин разгрома пруссаков под Кунерсдорфом годом позже.
Еще в лесу колонны встречаются, конница перестраивается, к восьми часам утра при ярко сияющем солнце «синие» показываются вдали из‐за разделявшего армии леса. «Чуть утро осветило пушки, пруссаки тут как тут», – меланхолично рифмует поручик Лермонтов (Иван из 5-го Мушкетерского, вскоре, увы, убитый). «Началось! Вот оно! Страшно и весело!» – говорит лицо прапорщика Толстого, тоже Ивана, из Новгородского пехотного на противоположном фланге. Этот отделается легким ранением. А Пушкин? Тоже есть, но не просто, а Мусин. Еще Бенкендорф, Раевские, Нащокин, Беллинсгаузен, барон Врангель и даже Ленин такой молодой (подпоручик, Александр). Все еще в одном фрунте, всё только начинается.
С восьми до девяти, нимало не препятствуемый русскими, неприятель разворачивается на Цорндорфском плато в ордер баталии и ставит батареи.
Слова «маскировка» в военном лексиконе еще нет и в помине. Солдаты Семилетней войны щеголяют в разноцветных мундирах. Армия Фридриха в традиционном синем – вернее, голубом, поскольку дешевая краска на униформе рядовых быстро выцветала[289]. Противостоящую им Российско-императорскую армию по идее следует обозначать как «зеленых». Однако на самом деле это скорее «красные», поскольку в жаркое время русские оставляют верхние кафтаны в полковом обозе и сплошь остаются в красных камзолах (№ 115, 116), благо ночи пока стоят «ясные и теплые»[290].
Итак, «синие» против «красных», почти как на командно-штабных учениях или в игре «Зарница». Прусские егеря, правда, уже в неприметном зеленом. Но пройдет сто лет, прежде чем англичане начнут писать о гибельности своей, также красной, униформы и появится хаки. Тогда как французы будут щеголять в духоподъемных красных штанах аж до 1915 г.
Пока же утреннее солнце подсвечивает пруссакам, наступающим с юго-востока, идеальные мишени: плотные красные ряды русской пехоты со сверкающими штыками, среди которых стоят орудия на красных лафетах, с красными же зарядными ящиками. Спрятаться негде: действие разворачивается на жнивье, ибо, как и все остальные вокруг русского лагеря, Цорндорфское поле убрано русскими. Еще за день до баталии они обмолачивали зерно и пекли сухари (№ 3)[291]. Барóчные дымки занимающихся там и сям в Цорндорфе пожаров обрамляют сцену. «Да тут ни одно ядро не пропадет!» – веселится рачительный Фридрих, окинув взглядом позиции неприятеля.
В деcятом часу первый прусский канонир, прищурившись, прикладывает фитиль. Пока ядро летит, у нас есть время, чтобы сказать еще несколько слов об обстоятельствах разгорающейся баталии.
Черная шутка топонимики: название деревни Zorndorf, переделанное из славянского корня, стало звучать по-немецки как «деревня гнева». Очень возможно и поэтому баталия в прусских реляциях была привязана именно к Цорндорфу, ибо в данном случае nomen est omen. По своей жестокости и эмоциональному накалу к этой битве меньше всего подходит распространенный для XVIII века термин кабинетной «войны в кружевах». Фридрих передает устно своим войскам утром перед баталией цветистым слогом: «Вам надлежит усердствовать о совершенном истреблении яиц, дабы из них не вылупился молодняк»[292]. «Пруссаки пардону не дают», – кричат друг другу «синие» в разворачивающихся колоннах.
Русские об этом узнают и отвечают тем же[293]. Поскольку в их позиции все пути к массовому отступлению отрезаны, они дерутся с мужеством отчаяния. Так, во всяком случае, звучит самый ходовой аргумент с прусской стороны для объяснения упорства неприятеля. С ним стóит быть осторожным: вряд ли рядовая масса армии представляет в деталях свое положение[294]. Несомненно другое: обе армии находятся в состоянии аффекта. Российская армия проводит несколько тревожных дней в ожидании, ночью стоит во фронте под ружьем, конница не расседлывала лошадей (№ 78). За спиной «синих», пришедших с Фридрихом, многодневный марш всего с несколькими часами отдыха. Но и батальоны из корпуса Дона, которые действовали против русских до прибытия короля, вопреки его иронии про «чистеньких», тоже измотаны: «В продолжение четырех недель [до баталии] нам не разрешалось снимать ни камзола, ни башмаков, ни чулок»; «От слабости многие с лошадей на марше падали»[295].
Пруссаки вне себя от сожжения Кюстрина. Анонимный офицер из корпуса Дона рисует что-то вроде репетиции московского 1812 года, причем приличные дамы босиком в крестьянских телегах, похоже, особенно воздействуют на его воображение:
Перед нашими глазами горящий Кюстрин, по пути бесчисленное множество несчастных, лишившихся имущества, в слезах. Дамы из общества в неглиже, частью босиком, у многих осталось лишь то, что было на них […] Много крестьянских телег с дамами в мантильях, ночных чепцах, другие с куафюрами, все в отчаянии и горести. Деревни, дворы, риги и сараи заполнены беженцами. Родители, в страхе ищущие детей, и дети – родителей[296].
Поэт Эвальд фон Клейст жаждет крови: «Скоро, совсем скоро наступит жатва смерти. Русские созрели. Они превратили Кюстрин в груду камней. От участвовавших в этом деле войск не должно и костей остаться»[297]. Настрой дополняют сообщения, да и личные впечатления об «эксцессах» русских иррегулярных частей, вкупе с голодом и жаждой.
Стоят многодневные «жары» – как и во все эти военные лета, которыми отмечена жаркая и засушливая середина XVIII в.[298]. В глаза бьет немилосердное августовское солнце, летит дым от пороха и подожженных деревень; там и тут взрываются зарядные ящики. Дело происходит на землях «песочницы Европы», как называют эти прусские земли. Сгущающаяся пыль из-под копыт лошадей заставляет всадников «проскакав с пятьдесят шагов, останавливаться и осматриваться, где ты находишься»[299]. Вообще дым и пыль объясняют многие непредсказуемые движения и поступки этого дня. В доброй половине рапортов и пруссаков, и русских находятся пассажи вроде «в превеликой пыли… много ездя найти не смог»[300] или «…мы огляделись, и после того как пыль улеглась, не обнаружили другую половину нашего корпуса»[301]. Насколько ветер с пылью и дымом досаждал участникам баталии, видно из того, в чем потом обвиняют главнокомандующего Фермора: «Лютеран, генерал командующей, армию поставил под ветер и всю погубил»[302]. На самом деле и с другой, прусской, стороны положение не особо лучше: «Неприятель зделал такой дым и жар, что часто и руки пред собою видеть нельзя было» (№ 111).
Начинается двухчасовая артиллерийская дуэль. Петр Панин пишет «1 час и 55 минут» (№ 4), и это в высшей степени характерно. Часы – вообще отдельная и большая тема. Все в эту эпоху подчинено принципу регулярства. Обладание часами, как и умение фиксировать пространство на планах и картах, – органичная привилегия подданных регулярного государства, механизм которого подобен часовому. И даже больше – мира, «заведенного» Великим Часовщиком[303]. Наличие часов – это и признак, и фактор того, что время из церковного становится «государственным» и личным[304].
«Тайминг» наряду с измерением пространства определяет автобиографику этого периода, и особенно это характерно для военных «юрналов». Время – критерий социального положения. Для простых жизней «ненужная дробность»[305], которая фиксируется много что по годам. Тогда как дни, часы и уж тем более минуты – маркер светского (на монастырских часах, как в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, нет минутных стрелок) и привилегированного социального положения. «Надобно помнить, в чем есть нужда и не упущать ни минуты», – наставляет управляющего командующий артиллерией К. Б. Бороздин (№ 33). Хронометраж – символ статуса[306], объект вожделения купчиков вроде Ивана Кулибина, который пока чинит чужие механические часы в Москве, и дьячков вроде Герасима Скопина, мастерящего себе самодельные солнечные[307].
Часы – приоритетный объект реквизиции у пленных: по негласному закону войны они отдаются в первую очередь вместе с кошельком и офицерским шарфом (№ 81)[308]. Так что офицер – человек с часами не в меньшей степени, чем человек с ружьем. Здесь и сейчас, под огнем прусских батарей, время сжимается, и за пять минут в этом аду многое может произойти. Офицеры то и дело справляются по своим «томпаковым, насеребреным в Кениксберхе» (№ 81), сколько это уже продолжается и скоро ли конец. Но канонада продолжается.
На артиллерию возлагают особые надежды с обеих сторон. Главный стратег и создатель Обсервационного корпуса П. И. Шувалов вообще считает инфантерию только прикрытием для своих чудо-орудий[309]. Но и в Пруссии артиллеристы выросли во мнении Фридриха II. Ввиду неизбежных потерь при фронтальной атаке русских он стремится минимизировать их артподготовкой, ибо «ничто не устоит против канонады»[310]. Артиллерия должна восполнить ухудшающиеся боевые качества прусской пехоты, сильно поредевшей за два года войны и разбавленной сомнительным контингентом пленных и новонабранных.
Эта дуэль проиграна русскими подчистую. При расстановке артиллерии, которой в том числе занимался лично Фермор[311], допущены фатальные просчеты. Большая часть орудий была размещена первоначально на левом фланге в рядах ОК, поскольку отсюда до обходного маневра Фридриха ожидался основной удар[312]. Пруссаки же распределили свои тяжелые орудия (подвезя их дополнительно из Берлина и Кюстрина) по всему фронту[313]. Артиллерией у «синих» командует полковник Карл Фридрих фон Моллер, прусский Бонапарт эпохи Тулона. Во многом именно его удачной расстановке орудий Фриц обязан своими победами при Лобозице и Росбахе, его «гению» он доверяет так же, как коннице Зейдлица. Но заслуга Моллера не только в удачной расстановке. Прусская артиллерия несравненно более мобильна: их батареи при необходимости перемещаются по полю взад и вперед между фронтами противоборствующих сторон и от фланга к флангу в зависимости от складывающейся ситуации, даже рискуя при этом подвергнуться атаке неприятеля[314].
Тогда как у русских, из‐за недостатка лошадей и плохого состояния имевшихся, почти половина орудий Обсервационного корпуса была вообще оставлена на марше, а количество зарядов ограничено ста выстрелами на ствол[315]. Орудия «красных» оживают со значительным опозданием, вызванным перетаскиванием их с места на место при перемене фронта[316]. Из-за этого же пушки, стоя на ровном поле, оказываются совершенно беззащитными перед «кавалерийской фурией» и «наглой атакой инфантерии»[317]. В ходе битвы, при перебитой прислуге и лошадях российская артиллерия быстро оказывается обездвиженной. «Отвозные» команды, назначенные для перевозки орудий, и солдаты прикрытия их бросают[318].
Первоначально разница в дальнобойности артиллерии была в пользу русских: из своих единорогов они могли обстрелять пруссаков, когда их линии только начали сближаться с нашими. Тогда как прусские ядра не долетали до «красных» (один из командующих артиллерией, Корнилий Бороздин (№ 32–36), сообщал, как ядра падали перед его лошадью). Заметив это, «синие» стали прибавлять в заряды пороха, переменили «авантажные места» – и дело пошло[319].
Едва заметное глазу возвышение местности в несколько метров около Цорндорфа, которое русские собирались, но не успели занять, дало прусской артиллерии дополнительные выгоды. Сообщение о прусском ядре, поразившем «в одном гренадерском полку 42 человека», остается на совести Тильке. Но и другие очевидцы пишут, как пруссаки вырывали «картечными выстрелами по целому плутонгу»[320]. А в одном из наших писем одно и то же ядро сносит голову раненому гренадеру и убивает обоих его сопровождающих (№ 28). На первом этапе баталии пруссаки смогли нанести существенно больший урон российским войскам, оставаясь почти вне поля видимости последних: «Кроме неприятельских шляп едва видеть что было можно»[321]. По словам самих пруссаков, «их щастие при баталии было, что российская артиллерия болшею частию переносила или недоносила»[322].
Именно драматическое начало баталии, как мы увидим, произвело и наибольшее впечатление на авторов писем: «Был дожьжик ис 90 пушек 12 и 18 фунтовых» (№ 44); «Когда был страх, то пушечныя ево ядры. Очень от них у нас урон был велик» (№ 78).
Наконец «ровно в 11 часов» к канонаде присоединяется пальба «из мелкого ружья»[323]. Русские слышат из‐за дыма сначала бой барабанов, потом полковых гобоистов, играющих хорал «Ich bin ja Herr in Deiner Macht»[324]. Это прусский авангард под командованием генерал-лейтенанта Генриха фон Мантейфеля атакует правое крыло русских, где по прихоти судьбы командует бригадой другой, «наш»» Иван Мантейфель[325]. Первоначальная цель Фридриха, сосредоточившего на этом фланге основную мощь для атаки в три линии[326]: разбив на этом фланге русских, загнать всю их армию в близлежащие болота.
До сих пор Фридрих вполне чувствовал себя в роли драматурга, определяющего декорации и игру в пьесе. Однако уже здесь начинаются случайности, которых «Федор Федорович» опасался накануне. Обходя зажженный казаками Цорндорф, часть пруссаков отстает и не может выполнить диспозицию короля. Их гренадеры авангарда и первая линия пехоты перемешиваются друг с другом и, расстреляв патроны, остаются без поддержки. Из-за плохой видимости и попавшейся по пути рощицы наступающее крыло пруссаков расходится под углом друг к другу и размыкает фронт. В результате атакующие силы пруссаков вместо сжатого кулака распылены. Образуется брешь, чем не могут не воспользоваться русские.
Расстреляв запас патронов, до того, по словам хроникеров, безмолвные[327] (а в реальности, надо думать, сквозь зубы матерящие «лютерана») полки первой линии «красных» «с криком Ara (Victoria)»[328] идут в штыки. То ли по приказу П. И. Панина, то ли сами собой[329]. Поскольку атака закончилась разгромом, поражение и в этом случае останется сиротой – в отличие от аналогичного случая годом ранее при Гросс-Егерсдорфе. Когда неожиданный прорыв резервов через лес решил там исход битвы, «отцом» победы назначают постфактум без каких бы то ни было документальных доказательств Петра Александровича Румянцева. Общий ход и этого, и Цорндорфского сражения ясно говорит о другом: в критические моменты, особенно при атаке, армия пока далека от «регулярства» и подвержена стихийным порывам. Перелом тут наступит только со следующего 1759 г.
Пока же натиск «красных» легко обращает пруссаков в бегство; драгуны бригадира Гаугревена поддерживают порыв. Около полдвенадцатого неприятель «в конфузию пришел»: захвачены несколько прусских передовых батарей, попадает в плен флигель-адъютант Фридриха II граф Шверин, командующий этим крылом генерал-лейтенант фон Каниц ранен, потери пруссаков достигают половины состава[330].
286
Прозоровский 2004, 50.
287
Bertuch 1828, 50.
288
См. об этом: Масловский II, 81 второй пагинации.
289
Господа офицеры отличаются от выцветших рядовых и густотой синевы индиго. Изобретенная в начале XVIII в. «прусская синь» только получает распространение, см. в общем: Bleckwenn, Hans. Die friderizianischen Uniformen 1753–1786. Bd. 1–4. Osnabrück 1984. О материальной культуре прусской армии Семилетней войны: Füssel 2009 II.
290
Bertuch 1828, 46.
291
«Солдаты при помощи обывателей снятую с поля рожь молотили и хлебом запасались» (ЖВД, 198). Как выглядела «помощь обывателей» на практике, см. № 116.
292
Prittwitz 1989, 93.
293
Tielke 1776, 153.
294
Аналогично – и, вероятно, вслед за пруссаками – А. Т. Болотов пишет про Гросс-Егерсдорф (1757): «Самая храбрость наших воинов была уже принужденной, и они поневоле принуждены были драться до последней капли крови, когда им не бежать, не ретироваться было некуда» (Болотов I, 541). Другой ходовой аргумент – что ведение войны вообще и манера русских драться до конца в частности являются, как и построение в каре, наследием русско-турецких войн, где «просить пардону» было бесполезно. См. ниже также фантастический аргумент в истории Семилетней войны Рецова о «православных шахидах».
295
Hoppe 1793, 180; ЖВД, 239, см. № 113.
296
Аноним, лагерь при Блейене 19.08.1758 // OeStA. KA. FA. AFA. HR. Akten 664. 8. Bl. 1.
297
Э. фон Клейст – И. В. Л. Глейму, лагерь у Диппольдсвальде 19.08.1758 // Ewald Christian von Kleist’s sämmtliche Werke. T. 1. B. 1803, 124.
298
См.: Смилянская 1998, 167–168. Начало кампании зимой 1758 г. отмечено «неимением снега» (Коробков 1948, 230). Летом 1758 г., как и в предыдущем году, в Москве проходят крестные ходы о прекращении засухи (Скворцов 1914, II, 642).
299
Из письма родным Леопольда Иоганна фон Платена, шефа драгунского полка Юнг-Платен, от 30.08.1758 (Generalstab 1910, 122).
300
Бранденбург 1898, 298 (рапорт артиллерии штык-юнкера Ивана Колпакова, потерявшего своего командира).
301
Kalkreuth 1839, 31 четвертой пагинации.
302
Яковлев 1998, 81. Фермор пишет о «великом дыму по причине бывшего на нас ветра» (Реляция 15.08.1758 // Коробков 1948, 334). Про «несносные жары» этого лета, сопровождаемые такой пылью, «что ни неба, ни земли видеть не льзя было», единодушно сообщают русские и прусские источники (ЖВД, 239; Füssel 2009 I, 321). Русский двор, вопреки обыкновению, остается еще на весь сентябрь в Петергофе.
303
Ср. известный совет Лейбница Петру I об учреждении коллегий: («Как в часах одно колесо приводится в движение другим, так и в великой государственной машине…» и т. п. И тогда «стрелка жизни непременно будет показывать стране счастливые часы» (Герье В. Отношение Лейбница к России и Петру Великому по неизданным бумагам Лейбница в Ганноверской библиотеке. СПб. 1871, 197).
304
См.: Живов В. М. Время и его собственник в России раннего Нового времени (XVII–XVIII века) // Idem (ред.). Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени. М. 2009, 27–101.
305
Лапин В. В. Петербург. Запахи и звуки. СПб. 2009, 110.
306
12-летний Павел Демидов просит отца прислать главный «гаджет» эпохи, так как «я уже часто спрашеван от многих был: для чего я часов у себя не имею» (Демидовы 2006, 65). Брат молодой кн. Е. Р. Дашковой Александр Романович Воронцов обещает по ее просьбе заказать часы в Лондоне (А. Р. Воронцов – Е. Р. Дашковой, Лондон 6/17.08.1762 // АКВ V, 159); на масленичный карнавал в Петербурге в 1761 г. в лотерею разыгрываются золотые часы (АКВ IV, 462) и т. п.
307
Кулибин И. П. Мое жизнеописание [1769] // РС 1873, XI, 734–737; [Скопин Г. А.] Дневная записка пешеходца – cаратовского церковника из Саратова до Киева по разным городам и селам [1787] // Саратовский исторический сборник. Т. 1. Саратов, 1891, 41–74.
308
«Nach Kriegsmanier die Schärpe, Börse und Uhr an seinen Überwinder abgeben» («По обычаю войны отдать победителю своему шарф, кошелек и часы» (Briefe preußischer Soldaten 1901, 14).
309
«Корпус должен биться и победу свою достать действием артиллерии, а полки в такой позиции построены были, чтобы единственно для прикрытия артиллерии служили» (Масловский II, 111 второй пагинации).
310
Catt 1884, 356. Фридрих инструктировал, например, гр. Дона: «Поскольку артиллерия стала ужасно модной, на том крыле, где вы атакуете, следует организовать батареи из тяжелых орудий и гаубиц» (Фридрих II – гр. Дона, Грюссау 02.04.1758 // PC XVI, № 9887).
311
Муравьев 1994, 45.
312
Рапорт инженер-полковника И. Ф. Эттингера (Бранденбург 1898, 297), занимавшегося земляными работами.
313
Армии располагали примерно равным количеством орудий: (175–180 с российской стороны против 193 с прусской), однако в последнем случае 117 – крупных калибров (Бранденбург 1898, 281–282, 296; Generalstab 1910, 461, 464; Dohna 1783, 26).
314
Bericht 1758, 420–421.
315
Записка В. В. Фермора с ответами на опросные пункты Конференции, 25.02.1759 // Яковлев 1998, 87; Масловский II, 169.
316
Mitchell II, 45: «They (the Russians. – D. S.) had a prodigious quantity of artillery, though it began to fire much later, than the Prussian».
317
Из мнения К. Б. Бороздина об итогах Цорндорфа (Бранденбург 1898, 308) – после чего он рекомендует впредь каждому расчету иметь лопаты и окапывать орудие.
318
«По причине ‹…› разбежавшихся, данных из полков для повозки, солдат ‹…› и свести оную (артиллерию. – Д. С.) было некому» (Масловский II, 217 второй пагинации). См. также: Бранденбург 1898, 307.
319
Бранденбург 1898, 294–295.
320
Tielke 1776, 98; Прозоровский 2004, 50.
321
Костюрин 1759, 355; Принц Карл, 119; Hartmann 1985, 178.
322
РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 114. Ч. 3 (5). Л. 276–276 об. (Скаска явившегося из полону жида Йозефа Гирша, 19/30.09.1758). Гирш был пленен в день баталии вместе с кн. Антонием Сулковским (№ 109–111).
323
Neudammer Magistrat 1926, 196.
324
Теге, 1123. Под полковыми «гобоистами» в прусской армии подразумевались, кроме собственно гобоев, трубачи и фаготы (Möbius 2008, 262).
325
Иван Мантейфель-Цеге, см. о нем № 102.
326
Tempelhof 1785, 232–233. Инструкция Фридриха II перед битвой опубликована в: Donnersmarck 1858 II, 78–80 («Атакует одно крыло, другое остается полностью незадействованным»).
327
См., например: Теге 1864, 1123 («русские стояли неподвижно и тихо»). Тишина во фрунте – беспрекословное требование устава как один из атрибутов регулярности («что бы салдаты […] не толькоб не говорили, но и никакого шуму не делали», Описание пехотного полкового строю 1755, 51).
328
Tielke 1776, 99; № 4. Насколько могу судить, свидетельство Тильке (пусть и изданное в 1776 г.) – одно из первых об употреблении этого боевого клича именно в сухопутной армии. На флоте «ура» фиксируется еще в начале XVIII в. (Сенявин Н. А. Морские журналы Наума Акимовича Сенявина, 1705–12 годов // Записки Гидрографического департамента Морского министерства. СПб. 1852. Ч. 10, 338 et passim). Русские уставы знают только «гузе» для моряков (в Семилетнюю войну см.: Коробков 1948, 137). Поясняющие скобки Тильке также подразумевают, что саксонец с этим обычаем незнаком, хотя никто еще не считает его чисто русским. Английские, а позднее и немецкие источники второй половины XVIII – первой половины XIX в. фиксируют употребление Hurrah! во множестве.
329
Муравьев 1994, 44 и Прозоровский 2004, 50–51 противоречат друг другу, сам Панин (№ 4) настаивает на стихийном варианте.
330
Generalstab 1910, 167.