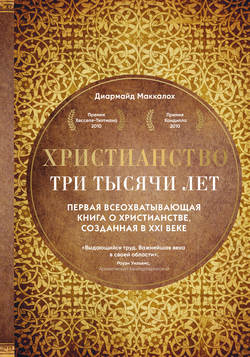Читать книгу Христианство. Три тысячи лет - Диармайд Маккалох - Страница 160
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть II
Единая церковь, единая вера, единый Господь? (4 год до н. э. – 451 год н. э.)
6. Церковь империи (300–451)
Миафизиты и Несторий
Столкновение Антиохии и Александрии
ОглавлениеОсновными участниками спора были александрийцы, с одной стороны, и антиохийцы, с другой. Не всегда богословы действуют согласованно, однако на этот раз у христианских ученых двух городов наблюдалась несомненная разница в подходах: мы уже отмечали, что антиохийские комментаторы Библии, в отличие от александрийских, склонны были понимать текст Писания буквально (см. с. 173–174). Теперь на повестку дня вновь встала проблема христологии: все та же трехсотлетняя загадка – как может быть связан человек, живший в Палестине, с космической фигурой Спасителя мира; или, точнее, как может одна и та же личность быть и человеком, и Спасителем? Арианский спор разрешен утверждением, что Христос имеет единую природу с Отцом; но что сказать тогда о его человеческой природе – его слезах, гневе, шутках, о преломлении самого обычного хлеба и питье вина? Насколько следует – и насколько возможно – отличать Христа-человека от Христа-Бога? Свой ответ на этот вопрос предложили талантливые богословы, связанные с Антиохией: сперва Диодор, епископ Тарса, затем его ученик Феодор, глубокий и тонкий богослов, уроженец Антиохии, впоследствии ставший епископом Мопсуэстийским (поблизости от современной турецкой деревушки Якапинар).
Александрийские богословы, следуя за Оригеном, стремились подчеркивать различие в Троице трех Лиц – поэтому дополнительное разделение личности Христа казались им излишними. Диодор и Феодор, знакомые с антиохийским буквальным и историческим прочтением евангельских жизнеописаний Иисуса, готовы были делать упор на реальной человечности Христа; кроме того, они стремились подчеркнуть единство Божества в Троице и поэтому были намного более готовы говорить о двух природах Христа, истинно человеческой и истинно божественной, на таком языке, который в Александрии мог показаться богохульным. Разницу в их позициях можно пояснить такой метафорой: в александрийском представлении о человечности и божественности Христа его единая Личность уподоблялась (не самими александрийцами) сосуду, содержащему в себе воду и вино – которые, естественно, смешиваются до полной неразделимости; по мнению же Феодора и его сторонников, две природы Христа содержались в сосуде его личности, как вода и масло – нераздельно, но и неслиянно.
Особенно рьяно Диодор и Феодор защищали свои позиции от ужасавшего их утверждения Аполлинария, что во Христе обитал Логос, заменивший в нем человеческое сознание. Они подчеркивали, что при всей своей божественности Христос обладал человеческой природой во всей ее истинности и полноте. Для Феодора жизненно важно было помнить, что Христос – второй Адам, что Он искупил человечество, положив себя в жертву в качестве истинного человека: та же мысль стояла за безумными саморазрушительными истязаниями современных ему сирийских монахов, стремившихся приблизиться к самоотрицанию человека Иисуса. Бог, настаивал Феодор, не просто «принял человеческую природу», но стал реальным, конкретным человеком: «Сказать, что Бог обитает во всем, есть, по общему мнению, вершина нелепости, а сущность Его описать невозможно. Поэтому до крайности наивно полагать, что обитание [Бога в Иисусе] есть вопрос сущности». Вот почему чрезвычайно важно было не забывать о различии между человеком Иисусом, при всей его «неподражаемой склонности ко всему благому», и вечным Словом, несущим в себе сущность Божества.[448]
448
Stevenson (ed., 1989), 291–295.