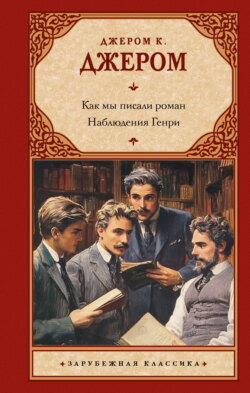Читать книгу Как мы писали роман. Наблюдения Генри - Джером К. Джером, Джером Джером - Страница 2
Как мы писали роман
Пролог
ОглавлениеДавным-давно, когда я был маленьким ребенком, мы жили в большом доме на длинной, прямой, красно-коричневой улице в восточной части Лондона. Днем оживленная и шумная по вечерам улица становилась малолюдной и понемногу затихала, и тогда на ней загорались фонари, настолько редкие и далеко отстоящие друг от друга, что казались, скорее, маяками. Тишину нарушали лишь тяжелые шаги полицейского, совершавшего обход большого участка. Эти шаги то приближались, то отступали, то пропадали вовсе, когда он постукивал по дверям и окнам, проверяя, закрыты ли те, или освещал фонариком темные подходы к реке.
Когда некоторые друзья выражали недоумение по поводу выбранного нами жилища, отец говорил, что у дома много преимуществ, и с одним из них мой неокрепший ум был полностью согласен: из задних окон дома было хорошо видно старое, усеянное множеством могил кладбище. Часто по ночам я украдкой вылезал из постели, забирался на высокий дубовый сундук, стоявший у окна моей комнаты, и со страхом всматривался в позеленевшие от времени старые могильные плиты, задаваясь вопросом: а вдруг скользящие меж ними тени – призраки, утратившие естественную белизну и почерневшие от долгого пребывания в городском смоге, – так со временем тускнеет залежавшийся снег.
Я убедил себя, что это действительно привидения, и в конце концов стал испытывать к ним дружеские чувства. Мне было интересно, что они чувствуют, видя, как на плитах постепенно стираются их имена, помнят ли, какими были при жизни, хотят ли снова стать живыми или сейчас им лучше. От последней мысли становилось грустно.
Однажды, когда я вот так сидел и смотрел в окно, на плечо мне легла рука. Я не испугался – рука была мягкая, нежная, очень знакомая, и я прижался к ней щекой.
– Почему мамин шалунишка вылез из постели? Может, стоит его отшлепать?
Другая рука ласково коснулась моей щеки, и легкие шелковистые кудри смешались с моими волосами.
– Взгляни, там призраки, мамочка, – сказал я. – Их так много. – И задумчиво прибавил: – Интересно, каково это – быть призраком?
Мать ничего не ответила, только взяла меня на руки и отнесла в постель, а сама села рядом и, держа мою руку в своей, почти такой же маленькой, запела тихим, ласковым голосом песню, всегда вызывавшую у меня желание быть хорошим мальчиком, эту песню я никогда ни от кого больше не слышал, да и не хотел бы услышать.
Во время пения что-то капнуло мне на руку, отчего я сел в постели и потребовал, чтобы мать показала мне свои глаза. Она рассмеялась коротким неестественным смешком, сказала, что все в порядке и что мне надо успокоиться и поскорее заснуть. Я послушно юркнул под одеяло, плотно закрыл глаза, но так и не понял, что заставило ее плакать.
Бедная моя мамочка, она изначально была убеждена, хотя наглядных доказательств у нее не было, что все дети ангелы и потому на них исключительный спрос в неких других местах, где для ангелов гораздо больше возможностей, поэтому детей трудно удержать в нашем бренном, зыбком мире. Мое упоминание в тот вечер о призраках заставило ее нежное любящее сердечко забиться в смутном страхе, и, надо признаться, такое состояние долго ее не оставляло.
Какое-то время я часто ловил на себе ее пристальный взгляд. Особенно во время еды, тогда она не спускала с меня глаз, но по мере приближения к концу трапезы в них появлялось довольное выражение. Однажды за обедом я услышал (дети не такие глухие, как думают родители), что она шепнула отцу:
– А он неплохо ест.
– Неплохо! – отозвался отец тем же отчетливым шепотом. – Да если он когда-нибудь умрет, то непременно от обжорства.
Тогда мамочка немного успокоилась, решив, что мои братики-ангелочки, похоже, не возражают некоторое время побыть без моего общества; я же со временем перерос свои детские кладбищенские фантазии, стал взрослым, перестал верить в призраков и во многое другое, во что человеку, возможно, лучше верить.
Но однажды воспоминание об унылом кладбище и бродивших там тенях ожило во мне, и мне почудилось, что я сам призраком скольжу по молчаливым улицам, по которым ранее ходил уверенным, полным энтузиазма шагом.
Так случилось, что, роясь в ящике письменного стола, куда давно не заглядывал, я наткнулся на пыльную коричневую папку с надорванной бумажной обложкой, на которой было написано: «Заметки к роману». Дух былых времен исходил от этих потрепанных страниц, и, раскрыв рукопись, я мысленно вернулся в те летние вечера (не такие уж и давние, если вести счет на года, но если измерять Время пережитыми чувствами, с тех пор минула вечность), когда сидели рядом и писали роман четверо друзей, которым никогда уж не сидеть вместе. Листая измятые страницы, я с каждой новой все сильнее ощущал неприятное чувство, что становлюсь призраком. Почерк был мой, но слова принадлежали незнакомцу, и, читая текст, я постоянно изумлялся, задавая себе вопрос: неужели я так думал? неужели на это надеялся? неужели собирался так поступить? хотел таким стать? неужели такой представляется молодому человеку жизнь? И не понимал, что мне делать, – улыбаться или тяжко вздыхать?
Рукопись состояла частично из дневниковых записей, частично из разрозненных заметок. Из всей этой массы размышлений и разговоров я отобрал то, что казалось мне лучшим, что-то добавил, что-то изменил, и в результате появились главы, которые вы видите ниже.
Я имел право так поступить, совесть на этот счет у меня спокойна, а я исключительно совестливый человек. Из четырех соавторов у того, кого я называю Макшонесси, не осталось на свете ничего, кроме шести футов выжженной земли в африканском вельде, а у того, кого величаю Брауном, я позаимствовал мало, да и то немногое так изрядно переделал и художественно улучшил, что по справедливости могу считать своим. Разве, придав нескольким бесцветным мыслям достойную литературную форму, я не сделал для него благое дело, воздав добром за зло? Ведь он, предав юношеские идеалы, шаг за шагом опускался все ниже, пока не стал критиком, то есть моим злейшим врагом. Теперь на страницах некоего снобистского журнала с большими претензиями и ограниченным числом подписчиков он называет меня Арри (опуская «Г» ради красного словца, подлец), а его презрение к англоязычным читателям связано в основном с тем фактом, что некоторые из них читают мои книги. А ведь в дни проживания в Блумсбери, сидя рядом в задних рядах партера на театральных премьерах, мы считали друг друга разумными людьми.
От Джефсона у меня хранится письмо, присланное из квинслендской глубинки. «Дружище, делай с рукописью, что хочешь, – писал он, – только оставь меня в покое. Благодарю за лестные слова в мой адрес, хотя я их не заслужил. Карьера писателя не для меня. К счастью, я вовремя это понял. Не всем это удается. (Я говорю не о тебе, старина. Мы читаем все, что ты пишешь, и нам нравится. Зимой в наших краях время течет медленно, и мы тогда почти всему рады.) Здешняя жизнь мне больше по нраву. Как здорово сидеть в седле и ощущать солнечные лучи на коже. Подрастают малыши, надо присматривать за слугами и за скотом. Думаю, тебе такая жизнь покажется заурядной, не творческой, лишенной интеллектуальной изюминки, но мне она подходит больше, чем сочинительство. К тому же сейчас писателей хоть пруд пруди. Все или читают, или пишут – думать некогда. Ты, конечно, возразишь и скажешь, что книга – конечный результат мыслей, но эта пустая фраза хороша лишь для газеты. Приезжай сюда, старина, посиди в одиночестве, проведи несколько дней и ночей, как делаю иногда я, с бессловесными животными на поднятом над землей и словно уходящем в небеса островке, и тогда ты поймешь, что я прав. Мысли человека, настоящие мысли, приходя к нему, остаются и прорастают в тишине. А мысли писателя в книгах – это то, что он предписывает нам думать».
Бедняга Джефсон! В свое время от него многого ждали. Но он всегда был со странностями.