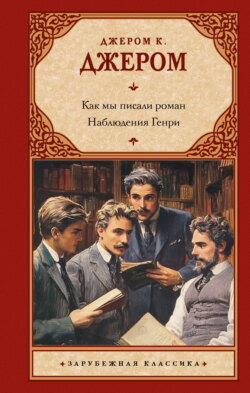Читать книгу Как мы писали роман. Наблюдения Генри - Джером К. Джером, Джером Джером - Страница 4
Как мы писали роман
Глава вторая
ОглавлениеНе могу сказать, что на первой встрече мы сильно продвинулись в работе. И вина тут целиком лежит на Брауне. Ему не терпелось рассказать нам одну историю. Это был анекдот с длинной бородой о собаке, которая повадилась ходить по утрам в одну булочную с пенни в зубах и получала за эту цену от пекаря сдобную пышку. Однажды он, полагая, что пес не заметит разницы, попробовал подсунуть бедному животному булку вполовину дешевле, но пес сразу вышел из лавки и привел с собой полицейского.
Браун в тот день впервые услышал этот допотопный анекдот и был от него в восторге. Не представляю, где провел Браун последние сто лет! Это великая тайна. Он может остановить тебя на улице со словами: «Ты должен это услышать. Классный анекдот!» – и увлеченно, со смаком поведать шутку, популярную во времена Ноя, или анекдот, который Ромул некогда рассказал Рему. Когда-нибудь случайный знакомый поведает Брауну историю Адама и Евы, и он, решив, что новый сюжет прекрасен, задумается, не стоит ли положить его в основу романа.
Эти предания старины глубокой он выдает за собственные воспоминания или за случаи из жизни троюродного брата. Как ни удивительно, но почти со всеми вашими знакомыми происходили какие-нибудь невероятные, поистине катастрофические приключения или, на худой конец, они становились их свидетелями. Я ни разу не встречал человека, который не присутствовал бы лично при падении пассажира с верхнего этажа даблдекера [2] прямо в телегу мусорщика и последующем извлечении его оттуда лопатой.
Есть еще одна затасканная история о даме, чей муж внезапно заболел в гостинице. Жена стремглав бросается вниз, готовит на кухне горчичный компресс и спешит обратно, но в суматохе попадает не в тот номер и там, стянув одеяло, нежно ставит компресс незнакомому мужчине. Я так часто слышал этот анекдот, что последнее время боюсь засыпать в гостинице. Каждый, кто его рассказывал, уверял, что спал в соседнем с жертвой номере и проснулся от страшного крика, когда мужчине налепили на спину жгучую горчицу. Поэтому он (то есть очередной рассказчик) знал все подробности этого случая.
Браун хотел, чтобы мы поверили, будто фантастическое, вневременное животное, о котором он рассказывал, принадлежит его шурину, и страшно обиделся, услышав, как Джефсон пробормотал про себя, что это двадцать восьмой шурин, известный ему как владелец собаки, не говоря уже о тех ста семнадцати, которые уверяют, что собака принадлежала им самим.
Мы сделали попытку приступить к работе, но анекдот Брауна сбил весь настрой. Грешно рассказывать такую историю в обществе обычных, не лишенных тщеславия людей. Стоит одному завести разговор о такой чудо-собаке, как у остальных возникает неодолимая потребность рассказать историю еще покруче. Вот, к примеру, одна из них. Не ручаюсь за ее достоверность, ведь ее рассказывал мне судья.
Приходской пастор, добрый и благочестивый старик, пришел навестить умирающего и, желая подбодрить беднягу, рассказал анекдот о собаке. Когда он закончил, больной приподнялся на подушках и сказал: «Знаю историю получше. У меня была однажды собака – крупная, коричневая, кривобокая…» Усилие превысило физические возможности больного и истощило его последние силы. Больной откинулся на подушки, а врач, подойдя ближе, понял, что тот кончается. Старый пастор поднялся, взял руку умирающего в свои и слегка пожал.
– Мы еще встретимся, – мягко произнес он.
Больной повернулся к нему. Безмятежная и благодарная улыбка озарила его лицо.
– Мне радостно это слышать, – прошептал он слабым голосом. – Тогда напомните, чтобы я досказал историю о собаке.
И больной мирно скончался с благостной улыбкой на устах.
Рассказавший свою «собачью» историю Браун был полностью удовлетворен и хотел, чтобы мы занялись судьбой нашей героини, но остальные не чувствовали, что готовы к этому. Каждый вспоминал слышанную им когда-то историю на собачью тему и прикидывал, насколько правдоподобной она выглядит.
В Макшонесси с каждой минутой заметно нарастало беспокойство и нетерпение. Довольный Браун, завершив свою историю, пустился в пространные рассуждения, которые, впрочем, никто не слушал, и наконец не без гордости подвел итог:
– Чего вам еще надо? Этот сюжет пока никто не использовал, и характеры во всех отношениях оригинальные.
И тут Макшонесси не сдержался.
– Если уж заговорили о сюжетах, – начал он, придвигая стул ближе к столу, – то у меня есть кое-что на примете. Я не рассказывал вам о собаке, которая жила у нас в Норвуде?
– Кажется, это был бульдог? – занервничал Джефсон.
– Да, бульдог, – невозмутимо признал Макшонесси, – но не думаю, что я рассказывал вам эту историю.
Зная по опыту, что спорить с ним себе дороже, мы приготовились в очередной раз слушать этот рассказ.
– Тогда в наших местах объявилось много грабителей, – начал Макшонесси, – И папаша решил, что настало время завести собаку. Лучше всего для этой цели, по его мнению, подходил бульдог, и он купил самого свирепого на вид пса из всех предложенных.
Увидев собаку, матушка встревожилась.
– Надеюсь, ты не позволишь этому зверю разгуливать по дому! – воскликнула она. – Он непременно кого-нибудь загрызет. У него на морде написано.
– Такой мне и нужен. Пусть загрызет грабителя насмерть.
– Мне неприятно слышать такие слова, Томас, – расстроилась матушка. – На тебя это не похоже. У нас есть право оберегать частную собственность, но нет права лишать такого же, как мы, человека жизни.
– Таким, как мы, опасаться нечего. По крайней мере до тех пор, пока они не залезут в наш дом без приглашения, – весьма резко возразил отец. – Я оставлю собаку в буфетной при кухне, и если у вора возникнет желание здесь поживиться, это его проблемы.
Примерно месяц у моих стариков шла перепалка из-за пса. Отец упрекал матушку в чрезмерной сентиментальности, а та его в излишней жестокости. А пес тем временем рос, и вид у него становился все более устрашающий.
Как-то ночью матушка разбудила отца словами:
– Томас, внизу грабитель. Я в этом уверена. Я отчетливо слышала, как открывали дверь на кухню.
– Если что, собака его уже загрызла, – пробормотал сонным голосом отец, который ничего такого не слышал и хотел только одного – спать.
– Томас, – строгим голосом произнесла матушка. – Я не собираюсь лежать здесь, зная, что кровожадный зверь убивает человека. Если ты не спустишься и не спасешь ему жизнь, это сделаю я.
– Что за ерунда, – заворчал отец, поднимаясь. – Вечно тебе что-то мерещится. Похоже, все женщины ложатся в постель только для того, чтобы не спать всю ночь, прислушиваясь, не залез ли грабитель. – Однако, чтобы успокоить жену, он натянул брюки, надел носки и спустился вниз.
Но на этот раз матушка оказалась права. В дом действительно проник грабитель. Окно кладовой было распахнуто, а в кухне горел свет. Отец тихонько подкрался и заглянул в слегка приоткрытую дверь. В кухне удобно расположился воришка, с аппетитом уплетая холодную говядину с овощами, а рядом на полу сидела наша бестолковая собака с восторженным, почти любовным выражением на наводящей ужас морде и дружелюбно виляла хвостом. Эта сцена настолько потрясла отца, что он позабыл об осторожности.
– Черт меня возьми… – И тут он разразился такой бранью, какую я не решаюсь воспроизвести.
При звуке голоса грабитель метнулся к окну и быстро дал деру, а пес явно обиделся за нового друга, которого так грубо выпроводили. На следующее утро мы повели пса к заводчику, у которого его приобрели.
– Как вы полагаете, зачем я купил эту собаку? – спросил отец, стараясь сохранять спокойствие.
– Помнится, вы сказали, что вам нужна хорошая собака для дома, – ответил заводчик.
– Именно это я и сказал, – продолжал отец. – Но разве я просил пса, готового лизать ноги грабителю? Который с первой минуты устанавливает с проникшим в дом вором дружеские отношения и сидит рядом, чтобы тот, упаси бог, не чувствовал себя за ужином одиноким?
И отец поведал заводчику, что случилось предыдущей ночью. Тот согласился, что основания для жалобы у нас есть.
– Кажется, я понял, в чем дело, сэр, – продолжил он. – Этого пса готовил мой сынишка Джим, и, похоже, натаскивал его, озорник, больше на крыс, чем на грабителей. Оставьте мне собаку на недельку, сэр, и все будет в порядке.
Мы так и сделали, и в назначенный срок заводчик привел бульдога.
– Думаю, теперь вы будете довольны, сэр, – сказал он. – Не могу сказать, что этот пес большой интеллектуал, но я постарался вправить ему мозги.
Отец решил, что неплохо проверить, насколько хорош достигнутый результат, и потому мы заплатили одному человеку шиллинг, попросив залезть в кухню через окно, в то время как заводчик будет держать на цепи бульдога. Пес был спокоен до тех пор, пока нанятый человек не оказался в кухне. Тогда он совершил мощный прыжок, и, если бы не крепкая цепь, шиллинг бедняге обошелся бы дорого. Отец успокоился, решив, что отныне может засыпать с легким сердцем, зато беспокойство матушки за судьбу местных воришек заметно возросло.
Шли месяцы, ничего не происходило, но как-то ночью в нашем доме нарисовался еще один грабитель. И на этот раз сомнений не было: пес не зря ест хлеб. Грохот на нижнем этаже был чудовищный. Дом сотрясался от борьбы.
Отец схватил револьвер и бросился вниз. Я – за ним. В кухне все было вверх дном. Столы и стулья перевернуты, а на полу лежал мужчина и сдавленным голосом звал на помощь. Поставив на беднягу лапы, пес его душил.
Отец приставил револьвер к виску мужчины, а я, собрав все силы, оттащил нашего защитника от жертвы, пристегнул к раковине и только потом зажег газовую лампу. Лежащий на полу человек был полицейским.
– Бог мой! – воскликнул отец, выронив револьвер. – Вы как сюда попали?
– Как я сюда попал? – повторил мужчина голосом, в котором слышалось крайнее – и вполне понятное – возмущение. – Выполнял свой долг – вот как. Только и всего. Увидел, как грабитель лезет к вам в окно, и – прямиком за ним.
– И вы его схватили? – спросил отец.
– Схватил? Как же! – пронзительно выкрикнул полицейский. – Как я мог его схватить, если ваше чудовище вцепилось мне в глотку, а грабитель спокойно закурил трубку и вышел через заднюю дверь?
На следующий день отец принял решение продать бульдога. Матушка, успевшая за это время привязаться к псу, который смиренно терпел, когда мой младший брат дергал его за хвост, была против продажи. Животное ни в чем не виновато, настаивала она. Мужчины вломились в дом почти одновременно. Бульдог не мог напасть на обоих. Он сделал все, что мог, – бросился на одного. То, что им оказался полицейский, а не грабитель, – случайность чистой воды. Такое могло произойти с любой собакой.
Но отец по-прежнему был враждебно настроен против бедного животного и на той же неделе поместил объявление в «Филд», где характеризовал пса как надежное вложение капитала для любого предприимчивого представителя криминального мира.
Макшонесси отыграл свою подачу, и мяч перешел к Джефсону, рассказавшему трогательную историю о бездомной дворняжке, попавшей под машину на Стрэнде. Собаку со сломанной ногой доставил в больницу на Чаринг-Кросс проходивший мимо студент-медик. Там ее вылечили и держали под наблюдением до полного выздоровления, и только тогда отпустили восвояси.
Бедняжка, видимо, понимала, как много для нее сделали, и на протяжении всего пребывания в больнице слыла самым благодарным пациентом из всех, кто там лечился. Весь медицинский персонал горевал, расставаясь с ней.
Как-то утром неделю или две спустя дежурный хирург, выглянув из окна, увидел ковылявшую по улице дворняжку. Когда она приблизилась, хирург разглядел в зубах у нее монету в одно пенни. На мгновение дворняжка задержалась рядом c тележкой продавца, торгующего мясными обрезками, и ее поза говорила о некотором колебании. Но благородство взяло верх, собака решительно направилась к больничной ограде и, встав на задние лапы, уронила монетку в ящик для пожертвований.
На Макшонесси эта история произвела большое впечатление. Он восхитился замечательной чертой в характере животного. Ведь собака была полным изгоем, бродяжкой, у нее никогда раньше не было цента в лапах и никакой надежды, что он когда-нибудь еще там появится. Пенни этой собаки значило гораздо больше, чем щедрый чек самого богатого человека в мире.
Теперь вся троица горела желанием приступить к работе над романом, но мне это показалось несправедливым. Я тоже знал парочку отличных историй о собаках, и их стоило рассказать. В прошлом мне довелось жить в одном доме с черно-рыжим терьером. Пес удрал от своего хозяина (если, конечно, он позволил кому-то быть хоть на время его хозяином, что выглядело проблематично, учитывая его независимый и агрессивный характер) и теперь жил совершенно самостоятельно. Наш холл стал его спальней, а столовался он у всех жильцов поочередно.
В пять утра терьер легко перекусывал в обществе юного Холлиса, ученика механика. Тот вставал в полпятого и сам варил себе кофе, чтобы успеть к шести на работу. В восемь тридцать пес плотно завтракал с мистером Блэром со второго этажа. А иногда даже дожидался встававшего поздно Джека Гэдбата и получал порцию жареных почек с подливой.
Потом терьер обычно исчезал и появлялся к пяти часам, когда я пил чай и съедал отбивную котлету. Где он был и что делал в этот длительный промежуток времени, покрыто тайной. Гэдбат божился, что пару раз видел, как пес выходил из конторы биржевого маклера на Треднидл-стрит, и каким бы невероятным ни казалось поначалу это утверждение, со временем, размышляя над необычной страстью терьера к монетам, которые он у всех клянчил и куда-то прятал, мы почти в него поверили.
Страсть к накопительству была у него исключительная. Уже немолодой пес был наделен чувством собственного достоинства, однако, чтобы заполучить пенни, мог гоняться за собственным хвостом, пока не превращался в один вертящийся круг. Пес выучил разные трюки и вечерами исполнял их, переходя из комнаты в комнату, а закончив программу, садился на задние лапы и клянчил деньги. Все мы его баловали, и никто не жадничал. За год он, должно быть, собрал немало фунтов стерлингов.
Однажды я увидел его в толпе перед нашим домом. Он внимательно следил за выступлением пуделя под звуки шарманки. В конце представления пудель встал на голову и передние лапы и так с задранными вверх задними ногами обошел круг. Это развеселило зрителей, они от души смеялись, и, когда пудель еще раз прошелся по кругу с деревянным блюдцем в зубах, туда щедро посыпались монеты.
Вернувшись домой, наш пес немедленно приступил к занятиям. Через три дня он уже мог ходить на передних лапах и в первый же вечер заработал шесть пенсов. В его возрасте такие подвиги даются нелегко, особенно если учесть, что терьер страдал ревматизмом, но ради денег он был готов на все. Думаю, за восемь пенсов он продал бы душу дьяволу.
Пес знал цену деньгам и в них разбирался. Если вы держали в одной руке пенни, а в другой – три пенса, он выхватывал именно монету в три пенса, и было видно, как он страдает, что не может заполучить и другую. Его можно было оставить в комнате наедине с бараньей ногой, ничего бы не случилось, но оставлять там кошелек было бы неблагоразумно.
Иногда, не слишком часто, терьер кое-что на себя тратил. Он безумно любил бисквитные пирожные и, если у него выдавалась удачная неделя, позволял себе угоститься одним или двумя. Однако тратить деньги для него было смерти подобно, и он отчаянно старался ускользнуть от оплаты, присвоив пирожное и сохранив пенни. План операции был прост. Пес входил в магазин с пенни в зубах – так, чтобы монета была на виду, и с простодушным взглядом, умильно глядя на кондитера, подбирался ближе к лакомству. Устремив на пирожные восхищенный взгляд, он начинал подвывать, и хозяин, думая, что имеет дело с честным покупателем, бросал ему пирожное.
Чтобы поймать добычу, терьеру приходилось ронять монету, и вот тут начиналась борьба за деньги между ним и кондитером. Последний пытался подобрать монету, пес же, придавив ее лапой, свирепо рычал. Если ему удавалось умять пирожное до конца состязания, он хватал монету – и был таков. Я не раз видел, как он, досыта обожравшись пирожными, возвращался домой с той же монеткой в пасти.
Со временем слух о бесчестном поведении терьера разнесся по всей округе, и большинство местных торговцев перестало его обслуживать. На риск шли только самые проворные и атлетически сложенные молодые люди.
Хитрый пес раскинул сети пошире – в районы, куда еще не докатилась молва о его дурной репутации, и выбирал кондитерские, в которых хозяйничали нервные женщины или старые ревматики.
Говорят, жажда наживы – корень всех бед. Именно она убила в терьере всякое чувство чести. В результате из-за своей страсти он лишился жизни. Вот как это случилось. Однажды пес давал представление в комнате Гэдбата, где собрались все мы, курили и болтали. Молодой Холлис, будучи в прекрасном расположении духа, проявил щедрость, бросив ему, как он полагал, шестипенсовик. Пес схватил монету и мгновенно улизнул под диван. Такая реакция была ему не свойственна, и мы принялись обсуждать такое необычное поведение. Внезапно Холлиса осенила мысль – он достал деньги и стал их пересчитывать.
– Черт побери! – воскликнул он. – Я бросил маленькому негоднику полсоверена. Эй, Малыш!
Но Малыш еще глубже забирался под диван, и никакие словесные увещевания не могли заставить терьера оттуда выбраться. Тогда мы прибегли к более жесткой тактике и вытащили его из-под дивана за шкирку.
Пес злобно рычал, крепко сжимая в зубах полсоверена. Сначала мы мягко уговаривали его отдать деньги. Потом предложили взамен шестипенсовик, что его, похоже, оскорбило – видно, он решил, что его приняли за дурака. Шиллинг и полкроны с раздражением отверг тоже.
– Не видать тебе, Холлис, полусоверена, как своих ушей, – сказал со смехом Гэдбат.
Все мы, кроме Холлиса, отнеслись к произошедшему с юмором. Холлис, напротив, пылал от негодования и, схватив пса, попытался вытащить монету из его пасти. Малыш, исповедующий принцип никогда не расставаться с добычей, вцепился в монету зубами. Почувствовав, что скромный доход медленно, но верно уходит от него, он сделал последнее усилие и проглотил монету. Та застряла у него в горле, и он начал задыхаться.
Нас охватил страх за собаку. Терьер был занятным квартирантом, мы его полюбили и не хотели, чтобы с ним что-то случилось. Холлис бросился в свою комнату и вернулся с длинным пинцетом. Мы все держали несчастного страдальца, пока Холлис пытался освободить его от предмета мучений.
Но бедный Малыш не понимал наших намерений. Он по-прежнему считал, что мы хотим его ограбить, лишив вечернего заработка, и сопротивлялся из последних сил. Эти усилия лишь загоняли монету глубже, и, несмотря на все наши старания, пес отправился к праотцам – еще одна жертва неразумной тяги к золоту.
Однажды мне приснился любопытный сон о сокровищах, который произвел на меня большое впечатление. В нем мы с другом – очень близким мне человеком – жили вдвоем в незнакомом старинном доме. Не похоже, чтобы кто-то еще здесь жил – только мы двое. Как-то, бродя по запутанным коридорам этого странного дома, я обнаружил неприметную дверь, а за ней потайную комнату. Там стояли окованные железом сундуки, и, поднимая одну за другой тяжелые крышки, я увидел, что все они полны золота.
После такого открытия я тихонько выбрался из комнаты, задернул плотнее перед дверью потертый гобелен и, крадучись, пошел обратно по темному коридору, поминутно со страхом оглядываясь. Ко мне подошел любимый друг, и дальше мы пошли вместе, рука об руку. Но теперь я был преисполнен к нему ненависти.
Весь день я не отходил от друга, а оказавшись на расстоянии, незаметно следил за ним, боясь, как бы он случайно не разведал секрет тайника. Ночью я не спал и сторожил его. Но однажды я все-таки заснул, а когда открыл глаза, моего друга рядом не оказалось. Я мигом взлетел по узкой лестнице и бросился бежать по спящему коридору. Гобелен был сдвинут, потайная дверь распахнута, а в комнате на коленях перед открытым сундуком стоял мой горячо любимый друг. Блеск золота ослепил меня. Друг стоял спиной ко мне, и я тихо подкрался к нему. В моей руке был нож с острым изогнутым лезвием, и, подойдя достаточно близко, я всадил его в спину моего коленопреклоненного друга.
Тело откинулось на дверь, которая с лязгом захлопнулась. Я тщетно пытался ее открыть. Ржавые гвозди резали руки, я кричал, а мертвец скалил зубы. Из-под тяжелой двери пробивался свет, со временем он исчезал, потом появлялся снова. Я в исступлении грыз дубовую крышку сундука, муки голода лишили меня рассудка. Проснувшись, я понял, что сильно проголодался, и тут вспомнил, что из-за головной боли не пообедал. Натянув на себя что попало, я поспешил на кухню – пополнить запасы энергии.
Есть мнение, что сны – кратковременная концентрация мысли вокруг эпизода, который заставляет нас проснуться, и, как обычно бывает с научными гипотезами, некоторые оказываются верными. Один сон с небольшими вариациями преследует меня. Раз за разом мне снится, что меня приглашают в «Лицеум» [3] на одну из ведущих ролей в какой-то пьесе. Несправедливо, что бедный мистер Ирвинг [4] очередной раз оказывался жертвой, но тут он сам был виноват. Именно он пылко уговаривал меня принять предложение. А я предпочел бы мирно провести вечер в постели, о чем ему и сказал. Но Ирвинг настаивал, чтобы я встал и ехал в театр. Мои доводы, что я полностью лишен актерского дара, он не принимал во внимание и только повторял: «Все будет хорошо». Некоторое время мы спорили, потом он дал понять, что это его личная просьба, и тогда, дабы пойти ему навстречу и наконец выпроводить из спальни, я против воли согласился на эту авантюру. Как правило, я играл моих персонажей в ночной рубашке, хотя однажды в «Макбете» в роли Банко надел пижаму. Текста я никогда не знал, и как выходил из положения, понятия не имею. Ирвинг каждый раз меня поздравлял – не знаю, то ли за превосходную игру, а может, за своевременный уход со сцены, пока в мою сторону не летели тухлые яйца.
Когда я просыпаюсь на этом месте, то обнаруживаю, что одеяло сползло на пол и я дрожу от холода. Полагаю, этот озноб и есть причина того, что я играю на сцене «Лицеума» в одной ночной рубашке. Но почему всегда в «Лицеуме», понять не могу.
Есть еще один сон, который мне не раз снился, или это во сне казалось, что он снится не первый раз. Такое тоже бывает. В нем я иду по очень широкой и длинной улице в районе Ист-Энда. Странная улица для тех мест. Омнибусы и трамваи проносятся мимо, повсюду ларьки и прилавки, и продавцы в засаленных шапочках кричат, рекламируя товар, а по обеим сторонам улицы тянутся полоски тропических растений. Улица сочетает в себе приметы районов Кью и Уайтчепела.
Кто-то идет рядом, хотя я его не вижу, и вот мы уже в лесу, продираемся сквозь переплетенные виноградные лозы, они путаются у нас в ногах, и все же время от времени мы видим между гигантскими стволами деревьев проблески оживленной улицы.
В том месте, где дорога сворачивает, я вдруг испытываю беспричинный страх. Дорога ведет к дому, где я жил в детстве, и сейчас там меня ждет кто-то, кому есть что мне сказать. Мимо проезжает конный трамвай, идущий до Блэкволла, и я пытаюсь его догнать. Но тут лошади превращаются в скелеты и бодро скачут от меня, а существо, шедшее рядом, – я его по-прежнему не вижу – хватает меня за руку и тащит назад.
Это существо приволакивает меня к дому и вталкивает внутрь, дверь за нами захлопывается, в пустых комнатах гулко звучит эхо. Все вокруг мне знакомо. Когда-то здесь я смеялся и плакал. Ничего не изменилось. Стулья, на которых никто уже не сидит, стоят на тех же местах. Мамино вязанье лежит на коврике у камина, куда его, помнится, котенок приволок еще в шестидесятых.
Я понимаюсь к себе – в маленькую комнату в мансарде. На полу валяются разбросанные кубики. (Я всегда был неаккуратным ребенком.) Входит старик – скрюченный, морщинистый, он держит над головой лампу. Я всматриваюсь в его лицо и вижу, что это я. Затем входит другой человек – и это тоже я. Потом еще и еще. И каждый человек – я. Наконец уже вся комната заполнена людьми, и лестница, и безмолвный дом. У одних лица старые, у других – молодые, некоторые приветливо улыбаются, но большинство смотрит равнодушно или злобно. И все лица мои, и ни одно не походит на другое.
Не знаю, почему мои подобия так меня испугали, но я в смятении выбежал из дома, и хотя несся сломя голову, они продолжали меня преследовать, и было ясно, что от них не уйти.
Как правило, спящий человек всегда главный герой своих снов, но иногда мне снятся сны от третьего лица, к содержанию которых я не имею никакого отношения, разве что как невидимый и бессильный свидетель. Когда я вспоминаю один из них, мне кажется, что он мог бы лечь в основу рассказа. Но, возможно, тема слишком болезненная.
Мне снилось, что в толпе я различаю женское лицо. Порочное лицо, но есть в нем какая-то притягательная красота. Мерцающие отблески света от уличных фонарей высвечивают его дьявольскую красоту. Потом свет гаснет.
В следующий раз я вижу женщину в некоем далеком месте, и ее лицо еще прекраснее, чем прежде, ибо из него ушло зло. Над ней склонилось другое лицо – прекрасное и чистое. Они сливаются в поцелуе, и когда мужчина приникает к ее губам, кровь приливает к щекам женщины. Через какое-то время я снова вижу эти лица, но теперь не знаю, где они находятся и сколько времени прошло. Мужское лицо слегка постарело, но все еще молодо и красиво, и когда глаза женщины останавливаются на нем, они сияют ангельским светом. Но иногда я вижу женщину одну, и тогда в ее глазах вспыхивает прежний злобный огонь.
Потом картина становится яснее. Я вижу комнату, в которой они живут. Бедная обстановка. В углу стоит старый рояль, рядом стол, на нем разбросаны в беспорядке бумаги, посредине чернильница. К столу придвинут пустой стул. Сама женщина сидит у раскрытого окна. Издалека доносится гул большого города. Слабые лучики его огней проникают в темную комнату. Запахи улиц дразнят нос женщины.
Время от времени она поворачивается к двери и прислушивается. Затем опять устремляет взгляд в открытое окно. И я замечаю, что каждый раз, когда она смотрит на дверь, ее взгляд смягчается, но как только переводит его на улицу, в глазах снова загорается угрюмое и зловещее выражение.
Неожиданно она вскакивает – на лбу у нее капельки пота, а в глазах ужас, во сне он пугает меня. Постепенно лицо ее меняется, и я снова вижу порочную ночную диву. Она закутывается в старую шаль и выскальзывает из комнаты. Слышатся удаляющиеся шаги на лестнице, все слабее и слабее. Внизу хлопает дверь. В дом врывается уличный гомон, женские шаги тонут в нем.
Время в моем сне течет быстро. Одна сцена сменяет другую, они возникают и исчезают, расплывчатые, неопределенные, пока наконец в полумраке не проступают очертания длинной, безлюдной улицы. На мокрой мостовой блестят круги от света фонарей. Вдоль стены крадется фигура в цветастом тряпье. Она обращена ко мне спиной, лица ее не видно. Из темноты выступает другая фигура. Я вглядываюсь в новое лицо, и меня ждет сюрприз – именно на него были с любовью устремлены глаза женщины в начале моего сна. Но в этом лице уже нет прежней красоты и чистоты, оно старое и порочное, как у женщины, когда я видел ее в последний раз. Фигура в цветастом тряпье медленно движется вперед. Вторая следует за ней и обгоняет ее. Фигуры замедляют ход и, разговаривая, приближаются. Они находятся в темном месте улицы, и лица той, что в цветастом тряпье, я по-прежнему не вижу. Оба молча подходят к освещенной газовым светом таверне, тут таинственная фигура поворачивается, и я вижу, что это женщина из моего сна. И на этот раз мужчина и женщина изучающе вглядываются в глаза друг другу.
Мне вспоминается еще один сон. В нем ангел (или демон, не знаю точно) является одному человеку с предложением: тот не должен никогда никого любить, никогда не испытывать и намека на нежность ни к женщине, ни к ребенку, ни к родственникам, ни к друзьям, и тогда его будет ждать успех во всех его начинаниях, все будет складываться наилучшим образом, и с каждым днем он будет становиться все богаче и могущественнее. Но если его сердце испытает к кому-нибудь теплоту или сострадание, тогда в тот же миг все его замыслы и планы рухнут, имя станет презренным и вскоре канет в забвение.
Человек глубоко проникся этими словами и утвердил их в своем сердце, ибо был тщеславен, и богатство, слава и власть были ему дороже всего на свете. Женщина любила его и умерла, не дождавшись от него ни одного нежного взгляда, топот детских ножек звучал и затихал в его жизни, какие-то лица уходили, приходили новые.
Никогда его рука не касалась любовно ни одного живого существа, никогда с его уст не срывалось доброе слово, никогда в его сердце не зарождалось желание кого-то облагодетельствовать. И удача сопутствовала ему во всех делах.
Шли годы, и наконец осталась только одна вещь на свете, которую ему следовало бояться, и это было маленькое, грустное детское личико. Девочка любила его, как раньше любила умершая женщина, и не сводила с него жаждущего, молящего взгляда. Но он, стиснув зубы, отворачивался.
И без того худенькое личико вскоре совсем осунулось, и наступил день, когда к нему вошли в кабинет, где он вел дела своих предприятий, и сообщили, что девочка умирает. Тогда он пришел и встал у изголовья ее кровати. Детские глазки открылись, девочка повернула головку, а когда он придвинулся ближе, протянула к нему с безмолвной мольбой ручонки. Но в лице мужчины не дрогнул ни один мускул, и слабые ручки упали на смятое одеяло, а печальный взгляд был по-прежнему устремлен на него. Стоявшая неподалеку женщина тихо приблизилась и закрыла девочке глаза, а мужчина вернулся в кабинет к своим планам и схемам. Но ночью, когда большой дом погрузился в сон, мужчина прокрался в комнату, где лежал ребенок, и откинул белую шероховатую простыню. «Умерла… умерла», – бормотал он.
Подняв крошечное тельце, он прижал мертвую девочку к груди и покрыл поцелуями холодные губы и щечки и ледяные окоченевшие пальчики.
С этого момента моя история становится вовсе неправдоподобной: девочка вечно покоится под простыней в тихой комнате, а ее лицо и тело не ведают тления. На мгновение меня это озадачивает, но вскоре я перестаю удивляться: ведь когда во сне фея рассказывает нам сказки, мы сидим перед ней с широко распахнутыми глазами, как маленькие дети, веря всему, каким бы фантастическим это ни казалось.
Каждую ночь, когда все в доме засыпает, в комнату входит мужчина и бесшумно закрывает за собой дверь. Он откидывает белую простыню, берет на руки мертвую малышку и всю ночь ходит по комнате, прижимая ее к своему сердцу, целуя и что-то напевая, подобно матери, баюкающей спящее дитя. А с первыми лучами солнца он бережно кладет мертвую девочку на кровать, накрывает простыней и скрывается за дверью. Мужчина преуспевает, все идет ему в руки, и с каждым днем он становится все богаче и могущественнее.
2
Даблдекер – лондонский двухэтажный автобус.
3
«Лицеум» – театр в Лондоне, действующий с начала XIX в.
4
Ирвинг, Генри (1838–1905) – актер, режиссер. С 1878 по 1898 г. руководил театром «Лицеум».