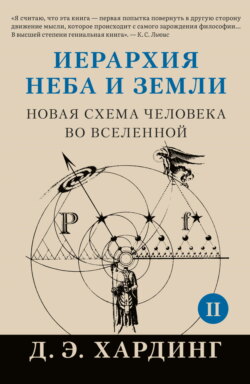Читать книгу Иерархия Неба и Земли. Том II. Часть II. Новая схема человека во Вселенной - Дуглас Хардинг - Страница 12
Часть II
Глава IV
Вид вблизи
11. Атом и областная схема: более сложные атомы
ОглавлениеЯ уже указывал на тот факт, что способ электрона объявить о приросте энергии – перейти на более далекую орбиту, где, так сказать, возможна более широкая перспектива. В общем, можно сказать, что по мере того, как мои наблюдатели увеличивают свое расстояние, они, в конечном счете, видят меня в большем объеме.
Солнечная система: размеры планет, но не их относительные расстояния. Изображение приблизительное, в масштабе.
Атом урана: схематическое указание содержимого каждого из его семи оболочек.
Однако в краткосрочном плане они могут также увидеть меня в меньшем объеме. Удаляясь радиально через мои области, наблюдатель отмечает увеличение содержимого (до определенного максимального предела); впоследствии это содержимое уменьшается и, быть может, вновь исчезает, пока он не дойдет до следующей области, где возникнет новое содержимое, которое, в свою очередь, также будет увеличиваться и уменьшаться. Иными словами, между любыми двумя соседними областями существует пограничная зона, где вид становится истощенным и неотчетливым. Однако это случай reculer pour mieux sauter («отступить, чтобы дальше прыгнуть»), небольшой задержки перед большим рывком вперед. Таким образом, мой удаляющийся наблюдатель видит, как у моей головы вырастает туловище, а у туловища – конечности; затем все уменьшается до тех пор, пока я не превращусь в карлика, в гомункула, в неразличимую точку; и он, со своей стороны, также проходит через подобные метаморфозы. Таким же образом и планеты, которые являются наблюдателями солнца (каким образом – будут показано далее), своей возрастающей массой указывают на их возрастающую оценку Солнца; а затем, уже за Юпитером, своей уменьшенной массой указывают на их уменьшенную оценку.
Эта тенденция – я называю ее законом веретена – иллюстрируется расположением электронов, принадлежащих моим более сложным атомам. Первая, или внутренняя, оболочка содержит максимум два электрона, вторая – максимум восемь, третья —18, четвертая – 32, пятая – опять 18, шестая —12 и седьмая и последняя – только два. И такое расположение электронов, по форме напоминающее веретено, как правило, отражено в отдельном атоме. Например, оболочки атома железа содержат соответственно 2, 8,14 и 2, а оболочки атома ртути – 2,8,18,32,18,2. (Тем не менее, в каком-то смысле это убывание не означает, что предыдущий прирост утрачивается. Чтобы найти клетку, идите в человеческую область; чтобы найти атом, идите в молекулярную область; чтобы найти легкий атом, заберитесь в оболочку тяжелого атома. Можно сказать, что человек – это клетки, молекулы и атомы; и более высокий или сложный атом также является более низким и менее сложным; например, аргон, с 2,8,8 электронами – это неон с 2, 8, и гелий – всего с двумя)[50].
Само ядро атома – хотя его члены и относительно компактны – также не свободно от закона веретена. Его также можно рассматривать как систему оболочек, внутренняя из которых состоит из двух протонов и двух нейтронов – то есть, это ядро гелия. На самом деле это вторая и еще более ограниченная субатомная область, со своими собственными правилами. Силы, которые связывают частицу с частицей, на этом близком расстоянии не повинуются закону инверсии квадратов, который руководит движениями орбитального электрона: будучи силами совсем другого вида, эти «обменные силы» намного превосходят те силы, которые удерживают электрон на его пути. С другой стороны, они быстрее ослабевают. Таким образом, на очень близком расстоянии обменные силы, связывающие ядерные протоны, превосходят силы, которые их разъединяют. Однако по мере того, как увеличивается размер ядра, а с ним – и среднее расстояние между его частицами, отталкивающие силы дальнего действия нагоняют притягивающие обменные силы ближнего действия; и ядро в целом становится все менее и менее стабильным. Вновь установлены лимиты для роста определенного вида, на определенном уровне.
Рождение материи из энергии – это рождение близнецов противоположного пола: гамма-луч становится положительным и отрицательным электроном. Их смерть – это их рождение наоборот.
Некоторое представление о природе этих загадочных обменных сил можно получить, предположив, что протон и связанный с ним нейтрон постоянно меняют свою идентификацию, или что они, как теннисисты, бросают друг другу единицу положительного электричества. И, вновь, кажется, что закон «где-то еще»-ости и процедура проекции-отражения, которые на высоких уровнях действуют незаметно, здесь открыто преобладают[51]. На самом деле можно сказать, что вся структура атома, и мир элементарных частиц в целом, состоит из пар, члены которых в чем-то противоположны, а в чем-то одинаковы. Итак, кроме орбитально-ядерной пары (электрон и протон, с равным, но противоположным зарядом) и ядерно-ядерной пары (протон и нейтрон, которые активно меняются идентификацией), существует и орбитально-орбитальная пара – электроны сгруппированы по парам с антипараллельным спином[52]. Но, быть может, самая поразительная из всех этих пар – это положительный и отрицательный электрон: эти частицы, близнецы с равной массой, и равным, но противоположным зарядом, одновременно зарождаются, когда гамма-излучение прекращается, и одновременно уничтожаются, когда они сталкиваются, оставляя гамма-излучение в качестве осадка. Согласно знаменитой теории Дирака, эти положительные электроны или позитроны следует считать дырами в пространстве, оставленными определенными обычными или отрицательными электронами, вместо того чтобы считать их чем-то существующими сами по себе. Таким образом, в общем, кажется, будто физика не выносит единичной частицы – этого «нечто», что не отбрасывает тени, у которого нет ни противоположного числа, ни партнера по спаррингу, ни областного наблюдателя похожего статуса. И неудивительно, если ненаблюдаемое и ни за кем не наблюдающее физическое тело, необщительное, самодостаточное, находящееся только там, где оно находится в центре и нигде более, является безосновательным мифом и нелепостью[53].
Но следует ли из всего этого (настаивает мой здравый смысл), что, для того чтобы иметь дело с одной частицей (или набором частиц), мой ученый должен уменьшиться до размера другой? И каким образом такое уменьшение возможно? Ответ прост и краток. Во-первых, ученый уже является – согласно его собственным данным – электронами, протонами и т. д.; во-вторых, электроны, протоны и т. д. являются – и это его рабочее предположение – областными влияниями, а не центральными субстанциями: нет причин предполагать, что в центре у них что-то есть. Никто так хорошо не подходит для исследования субатомных уровней[54].
На самом деле нам нужно лишь его послушать. Мы можем представить себе, как Резерфорд говорит: «Я собираюсь бомбардировать ядро азота», и вскоре на них бросается поток альфа-частиц – ядер гелия. «Давайте бомбардировать уран», говорит Отто Ган, и в атаку бросаются нейтроны. Я считаю, что это не просто болтовня, а, наоборот, еще один пример точности, сокрытой в общей для нас идиоме. Много глубоких открытий ждут того, кто просто слушает то, что он говорит.
Когда у профессора Гамова мистер Томпкинс исследует атом, он сам становится электроном[55], и действительно, как иначе мог бы он внедриться в этот маленький мир? Если ядерный физик (обратите внимание на название) обычно не настолько осознает себя и не настолько откровенен, то это лишь потому, что в атомных кругах он чувствует себя как дома, и научился так бегло говорить на их языке – языке математики, и, в частности, квантовой механики, – что его состояние и местонахождение проходят почти незамеченными: он так прижился, что не замечает места своего проживания. Но на самом деле его расчеты – очень схожие своей точностью относительно поведения толпы и своей неточностью относительно поведения личности – излишне загадочные (а то и невероятные и непонятные), когда к ним относятся как к чему-то, созданному руками человека; или как к чему-то инородному по отношению к тем уровням, к которым они относятся; или как к чему-то, навязанному им сверху. Нет, во вселенной, кроме электронов и протонов с определенной массой, зарядом и скоростью, существует также осознание этих электронов и протонов с определенной массой, зарядом и скоростью; и я не вижу никакого оправдания тому, чтобы отделять факты от осознания, низводя их в те области, где электроны и протоны неуместны. Там, где здравый смысл насчитывает два, я насчитываю лишь один; и на здравом смысле лежит ответственность показать необходимость в дупликации.
Таким образом, электрон не перемещается вслепую. Но утверждать, что физике, которая наделила его глазами, место исключительно на уровне электрона, было бы, очевидно, абсурдным. Ибо сама физика, как и предмет ее изучения, отвергает простое местонахождение. Ему место там, у основы иерархии, отсюда, с повседневных уровней здравого смысла и будничных дел. Инструменты наподобие циклотрона и генератора Ван де Граафа и сопутствующий им математический процесс являются лестницей Иакова, при помощи которой физик спускается на подвальный этаж вселенной, и все ее ступени необходимы. На самом деле, чем дальше мы отваживаемся вверх или вниз от человеческой плоскости, тем больше вероятности обнаружить, что никакое место не является чем-то само по себе или отдельно от вертикальных опор всей структуры в целом[56]. Чтобы попасть в ядро, физик должен продвигаться радиально через все его области, придерживаясь правил каждой из них по очереди; однако значение имеет именно история его путешествия 6 целом, которая и определяет исход его приключения. Изменив эту метафору, можно сказать, что наконечник стрелы ни на что не годен без ее древка, хотя, в свою очередь, без него древко не долетит до цели.
50
Наверное, я должен здесь добавить, что так же, как мы подходим к более большим и сложным атомам, так и внутреннее электронное облако сильнее притягивается к ядру и соответственно уменьшается в размерах. И это как раз то, чего и следует ожидать согласно нашей теории: это правило перспективы, что пространство должно смыкаться на дороге удаляющегося наблюдателя и вновь расширяться в области, к которой он приближается. Вновь получается, что если мы хотим получить четкие примеры и увидеть воплощение эпистемологических принципов, лучше всего – проконсультироваться с физиками.
51
В 1934 году Юкава заявил, что вещество, связывающее протон и нейтрон, является отрицательно заряженной частицей, которую они делят между собой. Мезон, как называется эта связующая частица, имееттотже заряд, что и электрон, но ее масса во много раз больше. Два года спустя такого рода «тяжелый электрон» был обнаружен исследователями космических лучей.
52
Принцип Паули гласит, что не более чем два электрона в атоме могут одновременно иметь один и тот же вид движения, и в этом случае у них антипараллельный спин.
53
Часто говорилось, что если два электрона А и В одновременно исчезнут из одного места и одновременно появятся в другом, то будет невозможно определить, кто из них – А или В – стал А'; и на самом деле не будет смысла утверждать, что того или другого из первой пары можно отождествить с тем или другим из второй. Мы не знаем ничего «у самого ядра», что могло бы служить отличительным знаком.
54
Физик пишет: «Наши представления о мире определяются тем положением, который человек занимает во вселенной, и наше воображение бессильно помочь нам, когда мы пытаемся покинуть это место. Представления человека о физическом мире и его взгляды на причинность были бы совершенно другими, будь он гораздо больше или гораздо меньше, чем есть». (К. Мендельсон, Что такое атомная энергия? с. 75). Но откуда бы мы знали, что это так, если бы наша картина мира и наши взгляды на причинность не были бы иногда полностью непохожими на человеческие? Или если бы мы иногда не забывали о том, каково наше место и рост?
55
Г. Гамов, Мистер Томпкинс исследует атом — хорошо известное красочное введение в предмет. Однако подобные работы, с философской точки зрения, часто являются самыми показательными. Ибо технический жаргон, хотя и незаменимый на своем месте, склонен вуалировать основополагающие предположения любого исследования. Я считаю, что 1) ни один ученый не может избежать употребления языка, который приписывает жизнь и ум частицам; 2) у нас нет причин предполагать, что это просто случайность и что возможно существование полностью «неанимистической» науки; 3) лингвистические условия науки нужно воспринимать так же серьезно, как и другие ее условия, и не отделять их от научных исследований «естественного мира». Я считаю, что если мы будем более честными относительно науки, как она есть на самом деле, мы, скорее всего, придем к той точке зрения, которую я здесь предлагаю.
56
Когда мы говорим, что какая-то вещь меняется, мы подразумеваем, что перемещаемся через все ее области отсюда до центра, отмечая в каждой области сопутствующие изменения; иначе, если наблюдаемое здесь изменение не поддерживается связанными с ним изменениями в ближних областях, то это всего лишь видимость – например, то, что мы называем атмосферными эффектами. Подобным, и многими другими, способами, мы подразумеваем вертикальную или иерархическую систему, сами того не осознавая.