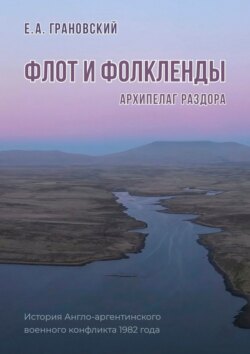Читать книгу Флот и Фолкленды. Архипелаг раздора. История Англо-аргентинского военного конфликта 1982 года - Е. А. Грановский - Страница 7
Аргентина накануне конфликта
Общие сведения
ОглавлениеАргентина (полная официальная форма – Аргентинская Республика) – государство на юго-востоке Южной Америки, территория – 2780 тыс. кв. км, по государственному устройству – федеративная республика. Население – 28,7 млн чел. (1981 г.), аргентинцы, главным образом выходцы из Испании, Италии, стран Центральной Европы; более 85% живут в городах. Столица – Буэнос-Айрес. Государственный язык – испанский. Денежная единица – аргентинское песо.
По данным переписи населения 2001 года, 97% жителей Аргентины причисляло себя к «белым» и лишь 2% указали индейское происхождение, хотя на самом деле доля потомков автохтонных народов больше – около 15% (проживающих преимущественно в периферийных сельских районах). Тотальное истребление коренных жителей в ходе «завоевания пустыни»32 и последующая массовая иммиграция из Европы, в основном итальянская, испанская и немецкая, предопределили особый, «европейский» характер этой страны, отличающий ее от соседей – Чили, Боливии и Парагвая, населенных по большей части индейцами и метисами. Расхожие стереотипы о латиноамериканцах как о жизнерадостных, сексуально озабоченных и жестоких «дикарях» в наименьшей степени применимы к жителям Аргентины. И конечно, здесь никогда не было такого беспредельного разгула преступности, как в Бразилии или Мексике, да и много еще где в регионе. Наверное, потому, что уровень жизни и образованности аргентинцев заметно выше. Очевидно, за все это их не любят другие латиноамериканцы; дескать, слишком много в аргентинцах высокомерия и пафоса.
Аргентинское воспитание, даже в «раскрепощенные семидесятые», считалось изрядно консервативным, в чем, по-видимому, сказывалось влияние деятельности ордена иезуитов во времена вице-королевства Рио-де-ла-Плата, а национальному характеру свойственна мечтательность, меланхоличность, предрасположенность к рефлексии. Хотя южный темперамент с присущей ему внутренней агрессией и мачизм в определенной мере проявляются и здесь (в особенности в среде военных). В Латинской Америке без этого никак. А по части лености и пустых обещаний все практически так же, как в Мексике и Венесуэле: традиционное латиноамериканское «маньяна», то есть «завтра», вовсе не означает, что данное обещание будет выполнено хотя бы завтра; скорее всего, оно не будет выполнено никогда. При выборе много работать и зарабатывать либо работать мало и больше отдыхать аргентинец практически всегда отдаст предпочтение отдыху. Под воздействием жаркого климата здесь привыкли все делать медленно, не торопясь, с долгими беседами. Разговаривают аргентинцы красиво, темпераментно и артистично.
Жителя Аргентины можно признать по приверженности к мате и жареному мясу, по употреблению звуков «ж» и «ш», отсутствующих в других диалектах испанского языка33, а также по приятельскому обращению (оно же универсальное междометие на все случаи жизни) «че», вошедшему в речевой оборот еще задолго до Че Гевары. Что роднит аргентинцев между собой – это развитое национально-патриотическое сознание, влечение к массовым протестным акциям и, конечно же, любовь к футболу. Страсти по футболу характерны для континента в целом, но в Аргентине приобрели гипертрофированные масштабы. Согласно проводившемуся опросу, большинство аргентинских мужчин предпочитают футбол сексу. Футбол сводит аргентинцев с ума и считается весомым основанием на время забыть про любые важные дела. Чем принципиально различаются между собой аргентинские и английские футбольные фанаты – тем, что первые устраивают шумные уличные беспорядки в случае выигрыша любимой команды, а вторые – чаще в случае проигрыша. В целом аргентинцы являют собой образованный, позитивный и незлобивый народ, который при ином стечении обстоятельств мог бы добиться гораздо больших достижений в экономической и международной сферах.
В начале XX века Аргентина была одной из самых успешных, динамично развивающихся и политически стабильных стран не только в Южной Америке, но и в мире (наиболее смелые обозреватели даже прогнозировали, что в будущем она опередит Соединенные Штаты), однако в дальнейшем абсолютно не оправдала возлагаемых на нее надежд. Если в 1913 году валовой внутренний продукт на душу населения в Аргентине был сопоставим со швейцарским, вдвое превышал итальянский и составлял половину от канадского, то в 1978-м ее ВВП на душу населения был уже в шесть раз меньше, чем в Швейцарии, в два раза меньше, чем в Италии, и в пять раз меньше, чем в Канаде. Нобелевский лауреат экономист Милтон Фридман едко высказался на этот счет, что не в состоянии уразуметь двух вещей: как Япония с ее скудными ресурсами смогла достичь столь многого и как Аргентина с ее огромными богатствами сделала так мало. Вторая половина XX века стала для Аргентины периодом экономического отставания от развитых государств и последовательной сдачи позиций на международных рынках – процесс, получивший наименование «аргентинского экономического декаданса».
Тем не менее к началу 1980-х годов Аргентина оставалась одной из наиболее развитых в экономическом отношении стран Латинской Америки. В 1981 году ею было произведено 2,5 млн тонн стали, 7,5 млн тонн пшеницы, 17,2 млн тонн кормового зерна, 3,8 млн тонн сои (бобов), 2,9 млн тонн мяса (говядины), 36,3 млрд кВт*ч электроэнергии. Добыча нефти в 1981 году составила 29 млн кубометров, газа – 9,9 млрд кубометров, угля – 520 тыс. тонн. Основные статьи экспорта – зерно, мясо, шерсть, вино, фрукты; импорта – машины, оборудование, топливо, химические товары, оборудование для электростанций. Жизненный уровень аргентинцев был выше, чем в большинстве стран Южной Америки.
Основным активом Аргентины в период ее экономического процветания служили колоссальные фонды плодородных земель, полученные в результате колонизации обширных территорий внутри материка. На землях, отвоеванных у индейцев, создавались огромные поместья, специализировавшиеся главным образом на производстве говядины и выращивании зерновых и масличных культур: пшеницы, кукурузы, льна, подсолнечника. Мощным стимулом быстрого расширения аграрного сектора был возникший высокий спрос на продовольствие на мировом рынке, прежде всего в странах Европы, ставших основными покупателями товаров с берегов Ла-Платы. Вплоть до 1930-х годов на мясо и зерновые приходилось порядка 95% всего аргентинского экспорта. Отсюда в Европу отправлялись рефрижераторы с мясом и сухогрузы с зерном, а с прибывающих пассажирских пароходов на берег сходили тысячи новых мигрантов. Сочетание богатых земельных угодий и постоянного притока цивилизованной рабочей силы оказалось «магической формулой» аргентинского «экономического чуда». Однако вся эта идиллия продолжалась до начала 1930-х годов. Аргентина не смогла вовремя выбраться из медового болота сырьевой экономики.
Тяжеловесный удар по экономике страны нанес мировой экономический кризис 1929—1933 годов, в результате которого сильно упал спрос на продукты традиционного аргентинского экспорта: их объем сократился более чем на две трети, с 1015 млн долл. в 1928-м до 331 млн долл. в 1932 году. В годы Второй мировой войны, в которой Аргентина участия не принимала, избежав всех ужасов и разрушений, и сотрудничала с обеими воюющими сторонами, ее экономика сумела в значительной мере отыграть упущенное. Однако становилось очевидным, что экспортно-сырьевая модель развития национальной экономики нуждается в пересмотре, тем более что послевоенная конъюнктура на мировых рынках сельхозпродукции на фоне успехов аграрного сектора США и Канады складывалась не в пользу Аргентины.
Еще одной слабой стороной аргентинской экономики была высокая зависимость от иностранных инвестиций. С конца XIX века суверенная внешняя задолженность Аргентины и расходы по ее обслуживанию имели неуклонно и опасно растущую тенденцию. В стране неоднократно возникали серьезные финансовые трудности, и только чудом удавалось избегать официального дефолта. Однако на практике аргентинские власти не раз прекращали – полностью или частично – долговые платежи и в связи с этим испытывали политическое давление со стороны зарубежных кредиторов. Многие аргентинские экономисты считают, что их родина чуть ли не с самого рождения оказалась посаженной на долговую иглу. В 1824 году, т. е. всего через восемь лет после провозглашения независимости, власти Буэнос-Айреса взяли у английского банка «Бэринг Бразерс» свой первый международный заем в размере 1 млн фунтов стерлингов (на тот момент – эквивалент 8 тонн золота) из расчета 6% годовых и со сроком погашения в 27 лет, причем из-за жестких условий соглашения и непомерных комиссий посредников в страну реально поступило немногим более половины номинальной суммы кредита – 570 тыс. фунтов. Эти средства были потрачены не на инвестиции в экономику, а на финансирование военных действий против Бразилии. В результате уже в 1828 году власти молодой республики оказались неплатежеспособными и объявили первый в истории Аргентины дефолт по суверенному долгу. Мораторий на платежи в пользу «Бэринг Бразерс» длился вплоть до 1857 года, когда было подписано соглашение о реструктуризации задолженности и возобновились платежи по ее обслуживанию, продолжавшиеся до 1904 года. За это время должник перечислил кредитору суммы, равнозначные почти 5 млн фунтам стерлингов (эквивалент – 38 тонн золота). Таким образом, был дан старт длительной и полной драматических эпизодов долговой истории Аргентины, а у аргентинцев, помимо территориального спора за Мальвины, появилось еще одно основание ненавидеть англичан, как поступает должник по отношению к своему кредитору. Хотя немногим сейчас известно, что во второй половине 1940-х годов был период, когда они поменялись ролями: хорошо нажившаяся на Второй мировой войне Аргентина на некоторое время превратилась в кредитора обнищавшего Соединенного Королевства, и она же вытащила из финансовой ямы франкистскую Испанию, однако затем все вернулось на круги своя.
Рассматривая аргентинскую экономику, следует также отметить ее значительную криминализованность. Если в отношении личной безопасности Аргентина всегда считалась достаточно благополучной страной, особенно на фоне большинства соседей по континенту, хотя тоже не обходилось без политического террора, похищений с целью выкупа и убийств как способа решения хозяйственных споров, то в экономической сфере правосознание ее граждан весьма далеко от законопослушности: налоги уплачиваются только крупными корпорациями, много сделок совершается за «черный нал», широкое хождение имеет доллар США со сразу несколькими, легальными и не очень, обменными курсами, малый и средний бизнес крышуется мафией и спецслужбами, а крупный тесно срощен с коррумпированным госаппаратом. Словом, все то, что нам знакомо по девяностым годам. Только тут это длилось не одно десятилетие, а было почти всегда, поскольку одинаково устраивало как хозяйствующих субъектов, так и государственную власть, независимо от того, кто находился у руля страны, генералы, перонисты или политики либерального толка.
Характерной чертой политического процесса в Аргентине (и для Южной Америки в целом) являлось активное вмешательство в него военных, обладавших высоким социальным статусом и корпоративным самосознанием. В критические моменты истории они брали власть в свои руки, считая себя главным гарантом национальной безопасности и политической стабильности. Первый раз это случилось 6 сентября 1930 года после того, как президент республики Иполито Иригойен, предпринявший попытку реформации экономики вразрез с интересами сельскохозяйственной и торговой олигархии, отказался принять требования, выдвинутые ему в меморандуме верхушки бизнес-сообщества. Он был свергнут военными под руководством генерала Хосе Феликса Урибуру, который затем лично обосновался в президентском дворце Каса Росада, заняв пост главы государства. Тем самым Аргентина вступила в новый период своей политической истории, с военными переворотами, нарушениями конституции и подавлением демократических прав и свобод. Он длился больше полувека – вплоть до 1983 года. Всего в период с 1930 по 1976 год военные в Аргентине совершили шесть государственных переворотов (1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976 гг.) и неоднократно организовывали вооруженные выступления и другие акции силового давления на гражданскую власть.
Исторически на позиции армии сильное влияние оказывала латифундистская олигархия, чьи представители долгое время формировали верхушку вооруженных сил. Это обстоятельство определяло антидемократический настрой аргентинских военных. Большинство из них придерживалось консервативных взглядов и выступало за создание политической системы, основными чертами которой были бы стабильность, жесткая иерархия и ограничение демократических прав и свобод граждан. Однако именно из среды офицеров, организовавших в 1943 году государственный переворот под лозунгом «За великую Аргентину», выдвинулся крупнейший национальный лидер XX века, Хуан Доминго Перон, харизматичный политик, основавший политическое течение имени самого себя и инициировавший крупномасштабный эксперимент по ускорению социально-экономического развития Аргентины. Последующие четыре десятилетия политической истории Аргентины фактически представляли собой чередование перонистского и военного правления.
В 1946 году Перон был избран президентом. Официальной государственной идеологией Аргентины становится хустисиализм (от испанского justicia – справедливость) или перонизм, аргентинский вариант национал-социализма, выдвигавший доктрину так называемого «третьего пути» развития, не капиталистического и не социалистического, а «национального». Зачастую перонизм называют «разбавленной версией итальянского фашизма». Перон являлся большим почитателем и приверженцем идей Бенито Муссолини, а после Второй мировой войны наводнил Аргентину беглыми немецкими, итальянскими и хорватскими нацистами и военными преступниками, оказавшими немалое влияние на менталитет аргентинцев. Однако вобрав всю присущую атрибутику как каудильизм, подавление инакомыслящих, расизм и антисемитизм, аргентинская модель, в отличие от европейских прототипов, имела несоизмеримо большую социальную направленность и, несмотря на декларировавшееся желание объединить под эгидой «великой Аргентины» все бывшие территории вице-королевства Рио-де-Ла-Плата, не подразумевала достижения благополучия одной нации за счет порабощения других. К тому же само слово «национальность» (nacionalidad) в испанском языке означает прежде всего гражданство, а не этническую принадлежность, а население страны, формировавшееся под сильным влиянием иностранной иммиграции, было еще в значительной мере полиэтническим. Да и внутренняя политика перонистов, стремившихся опираться на поддержку профсоюзов и широких слоев общества, а не репрессивный аппарат, не была по-настоящему жесткой34. Тем не менее именно при Пероне заложены идеологические основы аргентинского ультрапатриотизма, и к 1982 году уже два поколения аргентинцев были взращены под лозунгом «Мальвины наши». Из просто территориального спора «мальвинский вопрос» вырос до масштабов общенациональной идеи, изучаемой в школах, объединяющей все слои общества и имеющей фундаментальное значение для национальной идентичности Аргентины.
Если же обратиться к самому термину «фашизм», который имеет два основных значения: а) в узком и первоначальном смысле означает национал-социалистическую идеологию и авторитарную концепцию государства, основанную на принципах классового сотрудничества и корпоративизма; б) в современной политологии под фашизмом также понимают крайне правые авторитарные формы государственного устройства, политические движения и идеологии, проповедующие диктаторское правление, характерными признаками которых является милитаристский национализм, особое злосчастие Аргентины состояло в том, что в ней долгое время соперничали, чередуясь у власти, оба этих выражения фашизма в лице перонистов и военных хунт, что имело значительные негативные последствия для страны.
Хустисиалистская партия, несмотря на запрет ее деятельности на длительный срок после военного переворота 16 сентября 1955 г., сохраняла огромную популярность и впоследствии неоднократно побеждала на президентских выборах. Была даже такая присказка: «Если в Аргентине проводить честные и свободные выборы, то каждый раз одерживать победу будут перонисты». Они находились у власти в 1946—1955, 1973—1976, 1989—1999 и 2001—2015 годах. И хотя со времен Перона политические взгляды идеологов хустисиализма в немалой мере обуржуазились, это демонстрирует, что идеи «фашизма с человеческим лицом» в Аргентине по-прежнему популярны.
В экономической сфере перонистами делался упор на огосударствление экономики, плановое хозяйство и развитие национальной промышленности. Вместо привлечения иностранных инвестиций включался денежный печатный станок, разгоняя инфляцию. Аграрный сектор Перон откровенно не жаловал, поскольку сельское хозяйство являлось источником благосостояния его основных политических противников – крупных латифундистов. Некогда вносившее основной вклад в ВВП страны, оно деградировало, будучи скованным государственным регулированием и не получающее господдержки. И именно этот период – двух президентских сроков Перона – стал для экономики Аргентины знаковым. С одной стороны, был осуществлен колоссальный рывок в направлении индустриального развития страны, чего невозможно было бы достичь в условиях целиком рыночной экономики. Также очень много Перон сделал для улучшения уровня жизни трудящихся и малоимущих слоев общества, благодаря чему приобрел огромную популярность в народе. С другой стороны, экономическая система пришла в состояние сильной внутренней разбалансированности, преодоление которой в последующие годы превратилось в непосильную задачу, а аргентинской промышленности так и не удалось достичь конкурентоспособного с ведущими зарубежными производителями уровня.
Военные правили в стране в 1955—1958, 1962—1963 и 1966—1973 годах, перемежаясь с гражданскими правительствами буржуазно-реформистского толка.
Второй период нахождения перонистов у власти в 1973—1976 годах стал фактически полностью провальным в экономической сфере35, а общество в очередной раз оказалось на пороге полномасштабной гражданской войны. Особенно ситуация обострилась после смерти Х. Д. Перона в 1974 году, когда главой государства стала его супруга М. Э. Мартинес де Перон (Исабель Перон)36, бывшая танцовщица в ночном клубе. Борьба между леворадикальным, т. н. «Монтонерос», и ультраправым крыльями хустисиалистского движения приняла открыто вооруженный характер, а в джунглях провинции Тукуман действовали партизаны Революционной армии народа. Убийства, похищения, уличные бои, партизанские рейды и противоповстанческие войсковые операции ввергли страну в хаос.
Ирония истории: пламенные революционеры боролись против правительства Исабель Перон во имя идеалов социализма и справедливости, но на его место пришел не новый Че Гевара, а крайние реакционеры и милитаристы. Потерявшие терпение военные 24 марта 1976 г. сместили первую в мире женщину-президента, разогнали конгресс и приостановили деятельность политических партий. Исполняющим должность президента был назначен главнокомандующий сухопутными войсками Аргентины генерал-лейтенант Хорхе Рафаэль Видела.
В отличие от соседнего Чили, где генерал Аугусто Пиночет сосредоточил власть в своих руках, аргентинский военный режим не был единолично-диктаторским и основывался на принципах военного корпоративизма. Высшим правящим органом страны являлась Военная коллегия (Junta Militar), или, как ее принято называть, хунта – «триумвират» главнокомандующих видами вооруженных сил, – наделенная правом смещать и назначать президента37 и контролировать его деятельность. Президент страны совместно с членами хунты образовывали Военный комитет (Comité Militar), однако по укоренившейся традиции термин «хунта» используется как обобщенное понятие, означающее военно-политическое руководство Аргентины. Законодательная власть находилась в компетенции Законодательной консультативной комиссии, конклава армейской элиты, перед которым хунта держала ответ по важнейшим вопросам. Состав правящего «триумвирата» в результате соперничества и разногласий, имевших место в среде аргентинского генералитета, и под давлением сложной социально-экономической ситуации неоднократно менялся.
Как и во всех предыдущих государственных переворотах, генералы, захватившие власть, руководствовались благими намерениями восстановления правопорядка и достижения политической стабильности, однако пытались достичь этих целей как умели, сугубо по-военному. Как высказывался на этот счет сам Х. Р. Видела: «Очень много людей должны умереть в Аргентине, для того чтобы страна снова была безопасна». В результате спираль насилия раскрутилась с новой и еще большей силой. Начался один из самых мрачных периодов в истории Аргентины – так называемая «Грязная война» (исп. Guerra sucia) против собственного народа, продолжавшаяся с 1976 по 1983 год, основными жертвами которой стали оппозиционные политики и активисты. Сами военные называли это «процессом национальной реорганизации» (исп. Proceso de reorganización nacional).
Встречающиеся в популярной литературе утверждения, что аргентинские военные являются зачинателями «эскадронов смерти» и «полетов смерти»38, не соответствуют действительности. Ультраправые «парамилитарные» организации заявили о себе в Сальвадоре и Колумбии еще в 1960-х годах, а к середине 1970-х существовали в Латинской Америке уже почти повсеместно; пресловутый Антикоммунистический альянс Аргентины (ААА или Тriple A), убивший по официальным данным полторы тысячи, а по собственным подсчетам ААА – около десяти тысяч человек, был создан в октябре 1973 года Хосе Лопесом Регой, министром социального обеспечения в правительстве Хуана Перона и ближайшим сподвижником Исабель Перон, а в 1976 году принудительно распущен пришедшими к власти генералами, хотя многие его члены затем поступили на службу в армию. Что касается «полетов смерти», то подобная форма расправы практиковалась военными вполне демократической Франции в период Алжирской войны 1954—1957 гг., а также в соседнем Чили. Однако по размаху политических репрессий аргентинские военные превзошли генерала Пиночета. Впрочем, все это даже отдаленно не шло в сравнение с масштабами Большого террора в СССР.
По разным данным, в 1976—1983 гг. в Аргентине были убиты либо пропали без вести от 12 261 до 30 000 человек. Особо печальную славу за время «Грязной войны» приобрели Училище механиков ВМФ Аргентины (ESMA) и 601-й разведывательный батальон, личный состав которых принимал активное участие в преследовании и уничтожении инакомыслящих. И конечно, в этот раз дело не обошлось без международного заговора спецслужб. Как было открыто впоследствии, «процесс национальной реорганизации» координировался в рамках глобальной тайной операции «Кондор», осуществляемой диктаторскими режимами Чили, Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая и Уругвая при поддержке спецслужб США. Управление разведки Аргентины (SIDE) тесно сотрудничало со своими чилийскими коллегами из Директората национальной разведки Чили (DINA) и аналогичными организациями ряда других стран Латинской Америки.
В хозяйственно-экономической сфере также произошли кардинальные перемены, заключавшиеся в развороте вектора развития экономики страны в направлении неолиберализма. За экономический блок в период правления Виделы отвечал Хосе Мартинес де Ос. Он запустил программу реформ, основанную на монетаристских идеях Милтона Фридмана и направленных на либерализацию аргентинской экономики39. Главным в экономических планах новой власти было распахнуть внутренний рынок для международной конкуренции, осуществить радикальные перемены в валютно-финансовой сфере и провести денационализацию государственного сектора. В отличие от перонистов, активно использующих для стимулирования национальной экономики печатный станок, основным источником притока инвестиций стали внешние заимствования. В Аргентине утвердилась так называемая модель «стимулируемого долгом экономического роста», которая пришла на смену прежней модели, отдававшей приоритет импортозамещению.
Экономические шаги команды Мартинеса де Оса оцениваются неоднозначно. С одной стороны, реформаторам-неолибералам удалось обуздать галопирующую инфляцию, вывести из упадка аграрный сектор, превратить песо в валюту с высокой покупательной способностью и сделать Аргентину привлекательной для зарубежных инвесторов. С другой стороны, макроэкономические и социальные итоги реформ у большей части населения не вызывали оптимизма. Уровень жизни народных масс снижался. В стране насчитывалось 1,6 млн безработных – 12% экономически активного населения. ВВП упорно топтался на месте, а в пересчете на душу населения падал, инфляция сохранялась на опасно высоком уровне (более 100% в год). Продолжался процесс сокращения доли Аргентины в мировом товарообороте, квота внешней торговли оставалась крайне низкой – в пределах 5—8% ВВП. Государственный долг демонстрировал экспоненциальный рост и к концу правления военной хунты превысил отметку 41 млрд долларов, таким образом, Аргентина прочно вошла в число государств с максимальной внешней задолженностью на душу населения в мире. И все это на фоне процветающей коррупции и роста расходов на содержание и строительство вооруженных сил.
Сердцевиной экономического курса неолибералов стала объявленная в июле 1977 года реформа, которая предусматривала дерегулирование финансовой деятельности, либерализацию политики банковских процентных ставок и в целом поощряла и стимулировала кредитно-финансовую деятельность. Реформа в короткий срок спровоцировала активизацию спекулятивных операций, превратив их в самый выгодный бизнес. Искусственное завышение обменного курса песо по отношению к мировым валютам привело к тому, что импортные товары становились более дешевыми и вытесняли национальную продукцию с внутреннего рынка. Это вело к разорению предприятий реального сектора экономики, в первую очередь малых и средних. За счет терявшего позиции малого и среднего предпринимательства происходил интенсивный процесс концентрации капитала, возникали и усиливались финансово-промышленные группы. Именно они, наряду с крупными аграриями, компрадорами и иностранными корпорациями, извлекли выгоду из экономической политики хунты.
Для имущих слоев общества воцарилась пора «сладких денег» (исп. plata dulce), они использовали сильный песо для скупки иностранной валюты с последующим аккумулированием ее в виде инвестиций, недвижимости и банковских вкладов за рубежом. Пострадавшими от реформ оказались миллионы аргентинцев, работавших по найму. Их материальное положение ухудшалось из-за политики замораживания доходов в условиях инфляции – снижалась величина реальной заработной платы. Для сдерживания протестных акций военный режим запретил проводить забастовки и другие массовые выступления, внес антирабочие изменения в трудовое законодательство.
Значительным событием в жизни страны стал чемпионат мира по футболу 1978 года и победа в нем аргентинской сборной. Для аргентинцев это было глотком свежего воздуха. В административном плане мундиаль ознаменовался огромными финансовыми растратами, убийством председателя оргкомитета генерала Омара Актиса и полным игнорированием функционерами ФИФА творящегося в стране политического террора. Финальный матч между сборными Аргентины и Нидерландов состоялся 25 июня 1978 г. на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе и закончился со счетом 3:1 в пользу «бело-голубых». Дождь конфетти, бесплатные флаги, которые раздавались на улицах, громкое пение фанатов. Невзирая на то, что происходило в застенках Училища механиков ВМФ, находившегося всего в восьмистах метрах от главной арены, аргентинский чемпионат явился одним из самых атмосферных в истории футбола. Население ликовало. Однако этот спортивный триумф смог лишь ненадолго разрядить напряженную внутриполитическую ситуацию.
В сфере международных отношений Аргентина настойчиво поддерживала имидж непримиримого борца с распространением коммунизма на южноамериканском континенте, в частности, оказывала активную помощь и поддержку никарагуанским «контрас», а также диктаторским режимам Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, что, впрочем, не мешало ей состоять в Движении неприсоединения, председателем которого был революционный кубинский лидер Фидель Кастро. Также Аргентина членствует в Организации американских государств (ОАГ) и Пакте Рио-де-Жанейро 1947 года, межамериканском договоре о взаимной помощи, подписанном большинством государств Латинской Америки и США. Однако с самими Соединенными Штатами в период президентства Джимми Картера отношения не очень складывались, в 1978 году тот распространил на Аргентину, «в связи с многочисленными нарушениями прав человека», т. н. «поправку Кеннеди»40, ранее действовавшую против Чили. Она подразумевала прекращение всех видов военно-экономического сотрудничества. На это Аргентина в 1980 году ответила отказом присоединиться к американскому эмбарго на поставку зерновых в СССР в связи с вводом советских войск в Афганистан и сама заняла торговую нишу, ранее принадлежавшую американским экспортерам пшеницы.
С приходом в Белый дом Рональда Рейгана и Роберто Виолы в Каса Росада правительственные и военные контакты двух стран снова стали налаживаться. В Вашингтоне заговорили о возрождении идеи Организации Южноатлантического договора41, выдвинутой во второй половине 1970-х годов американским генералом Александром Хейгом и провалившейся из-за многочисленных противоречий между ее потенциальными участниками. Весной 1981 года Аргентину посетила целая процессия высокопоставленных американских военных: командующий южноатлантическими силами США контр-адмирал Питер Каллинс, командующий Атлантическим флотом адмирал Гарри Трейн, начальник командно-штабного колледжа ВВС бригадный генерал Ричард Ингрэм и начальник штаба армии США генерал Эдвард Мейер. Последний в ходе состоявшегося в апреле 1981 года визита лестно отзывался об Аргентине как стране, заслуживающей наибольшего доверия на континенте, и высказался за создание стратегического альянса двух государств. В начале августа в Буэнос-Айресе побывала постоянный представитель США в ООН Джин Киркпатрик, а с 5 по 15 августа главком сухопутных войск Аргентины генерал Галтьери находился с визитом в Вашингтоне, где его тепло принимал генерал Вернон Уолтерс, бывший заместитель директора ЦРУ и ведущий правительственный эксперт по Латинской Америке. Администрация Рейгана была готова закрывать глаза на политические репрессии хунты, однако камнем преткновения стало нежелание аргентинцев прекратить поставки зерна в Советский Союз, присоединиться к Договору Тлателолько42, а также послать свой миротворческий военный контингент на Синай. Не встретил понимания в Буэнос-Айресе и американский план урегулирования фолклендского спора посредством передачи островов под контроль Соединенных Штатов и создания там военно-морской базы. В итоге из-за переоценки правящими кругами двух стран роли и места Аргентины в американских геополитических планах, с одной стороны, и возможностей оказания политического нажима на нее, с другой, сближение осталось в значительной мере на словах.
Большой ущерб экономике Аргентины нанес мировой финансово-экономический кризис, разразившийся в начале 1980-х годов, повлекший новую волну банкротств предприятий и финансово-кредитных учреждений, подстегнувший инфляцию и безработицу. Но главная проблема неолиберальных реформаторов заключалась, пожалуй, в том, что избалованные высоким уровнем жизни аргентинцы оказались не готовы «затянуть пояса» и ждать, когда реформы принесут благотворные плоды (в Чили на это потребовалось больше десяти лет). Они сравнительно спокойно приняли жесткие политические методы хунты, но, когда стало убывать их благосостояние, толпы рассерженных граждан вышли на улицы. Остановить их одними только запретительными мерами было невозможно. В марте 1981 г. Видела передал власть генералу Роберто Виоле, представителю умеренного крыла генералитета и противнику свободного рынка. Мартинес де Ос был снят с должности, и экономика Аргентины стала разворачиваться обратно в сторону госкапитализма, а во внутренней политике сделаны значительные послабления и замаячили проблески возврата к демократии. Однако уже в конце года, не справившись с нараставшими экономическими неурядицами, Виола уступил свой пост генералу Леопольдо Фортунато Галтьери43. Утвержденный в должности президента Аргентинской Республики 22 декабря 1981 года, он сделал ставку на сплачивание аргентинского общества перед лицом внешнего врага. Правление третьего состава хунты характеризуется возвратом к неолиберальному экономическому курсу44, повышением внимания к социальным проблемам и нарастанием силовых тенденций во внешней политике. 1982 год был объявлен «годом Мальвин». Напомним, что 3 января 1983 г. должно было исполниться 150 лет британскому суверенитету над архипелагом. Вернуть острова до наступления этой даты аргентинские военные считали своим делом чести. «Возвращение Мальвинских островов, – провозгласил Галтьери, – поможет нам преодолеть экономический кризис!»
32
«Завоевание пустыни» (исп. Conquista del desierto) – военная кампания правительства Аргентины 1871—1884 годов против индейских племен в Патагонии. Стала ответом на постоянные опустошительные набеги индейцев на земли белых переселенцев. Среди исследователей и общественных деятелей нет единства мнений, было ли «завоевание пустыни» целенаправленным геноцидом автохтонного населения или же, наоборот, актом защиты от дикарей, поскольку оба определения являются верными.
33
В риоплатском диалекте испанского языка, или «кастешано», как его называют сами аргентинцы, буквы «y» («и гриега») и «ll» («элье») произносятся как «ш» или глухое «ж» (в зависимости от ударения и положения в слове). Именно так в Буэнос-Айресе звучат названия, связанные с Майской революцией: «Авенида де Мажо», «Пласа де Мажо». Фамилию свергнутого президента Чили Сальвадора Альенде аргентинцы произносят как «Ашенде», а фамилию свергнувшего его генерала – как «Пиношэ», на французский манер, поскольку фамилии иностранного происхождения в Аргентине как полиэтничной стране обычно транскрибируются в соответствии с оригинальными правилами соответствующего языка.
34
Эпитет «фашистский режим» в его современном понимании (как обозначение крайне правых авторитарных форм государственного устройства) в большей степени ассоциируется с военной хунтой генерала Виделы и его преемников, хотя в идеологическом аспекте они ничего общего с национал-социализмом не имели. Следует отметить, что в Советском Союзе к Перону отношение было в основном положительным, его хвалили как «умеренного антиимпериалиста», хотя, противореча сами себе, советские публицисты сообщали о фашистских корнях хустисиализма. Внутри движения со временем выделились леворадикальное, социал-демократическое и неофашистское крылья, которые в 1970-е годы стали активно физически истреблять друг друга, а до этого и частично после вполне мирно сотрудничали, споря по идейным вопросам. Показательно, что видный идеолог перонизма Норберто Рафаэль Сересоле, автор теории «прогрессивного националистического бонапартизма», был советником Фиделя Кастро и в это же самое время – идеологом чилийской фашистской организации «Патрия и Либертад», ведшей подпольно-террористическую борьбу против правительства Альенде. Политическую карьеру он закончил в должности советника президента Венесуэлы Уго Чавеса.
35
Если в 1970 году собираемые налоги покрывали свыше 80% расходной части бюджета, то в 1975 году этот показатель снизился до 25%, а в первом квартале 1976 года – до рекордно низкого уровня в 20%. Темпы инфляции составили в 1974 году – 24%, в 1975-м – 183%. Сальдо торгового баланса ушло в 1975 году глубоко в отрицательную зону. Госдолг в 1974—1976 гг. вырос более чем в два раза.
36
Мария Эстела Мартинес де Перон была третьей по счету женой Х. Д. Перона. Имя «Исабель» являлось сценическим псевдонимом, с которым Мария Эстела впоследствии пришла и в большую политику. Возвратившийся в Аргентину после 17-летней эмиграции Перон на внеочередных выборах (23.09.1973) был избран президентом, а М. Э. Мартинес де Перон – вице-президентом. После смерти Перона (01.07.1974) она в соответствии с конституцией заняла пост главы государства и стала первой в мире женщиной-президентом.
37
Президент назначался на пятилетний срок. Однако только одному Хорхе Виделе довелось пробыть у власти полный срок. Его преемник Роберто Виола покинул пост по состоянию здоровья, а Леопольдо Галтьери – из-за поражения в вооруженном конфликте за Фолклендские острова. Последний военный президент, Рейнальдо Биньоне, ушел с должности в связи с низложением хунты. В дальнейшем такой порядок назначения президентов был признан незаконным, ставленники хунты исключены из официального списка президентов Аргентины и стали обозначаться приставкой de facto (де-факто исполняющий должность).
38
«Эскадроны смерти» (исп. escuadrones de la muerte) – под этим термином обычно понимаются военизированные организации ультраправого толка, занимающиеся внесудебными убийствами, пытками и похищениями людей в целях осуществления политических репрессий, поощряемые или втайне от общества создаваемые государственной властью. «Полеты смерти» (исп. vuelos de la muerte) – форма внесудебной расправы над противниками правящего военного режима: человека при помощи нейролептиков приводили в бессознательное состояние, погружали на борт самолета или вертолета и сбрасывали с высоты в воду – в залив Ла-Плата или в Атлантический океан.
39
Идеи Милтона Фридмана и т. н. «Чикагской школы» в 1970-е годы нашли наибольший отклик в Чили и Аргентине и, как считается, нанесли значительный ущерб экономике этих стран, а позже были реализованы Маргарет Тэтчер в Великобритании и Рональдом Рейганом в США, на основании чего критиками неолиберализма делается вывод, что постулаты Фридмана приемлемо работают в индустриальном обществе, привыкшем к жесткой индивидуальной конкуренции, а в странах с нерыночной, переходной или недостаточно развитой экономикой полностью свободный рынок приводит к обнищанию трудящихся масс, обогащению крупных корпораций, деиндустриализации экономики, обострению социальных проблем и в конечном итоге к маргинализации значительной части общества.
40
«Поправка Кеннеди», известная также как «поправка Хамфри – Кеннеди» (Humphrey/Kennedy Amendment) – поправка к закону США «Об оказании помощи иностранным государствам», которая запрещает военно-экономическое сотрудничество со странами, широко нарушающими права человека.
41
Организация Южноатлантического договора (англ. South Atlantic Treaty Organization (SATO), исп. Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS)) – проект антикоммунистического военно-политического блока стран Южной Атлантики, выдвинутый во второй половине 1970-х годов. Предполагаемые участники: Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили и ЮАР.
42
Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне, подписанный на встрече глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна в районе Тлателолько города Мехико 14 февраля 1967 г.
43
9 ноября 1981 г. генерал Виола, который под тяжестью обстоятельств впал в депрессию, выкуривал по три пачки сигарет в день и злоупотреблял алкоголем, очутился в госпитале с тяжелой гипертонией. Исполнение обязанностей президента 21 ноября было возложено на дивизионного генерала О. Т. Льендо, занимавшего в правительстве Виолы должность министра внутренних дел. Галтьери с конца октября находился со вторым визитом в Соединенных Штатах (на этот раз для участия в XIV Конференции американских армий), где ему вполне недвусмысленно дали понять, что хотели бы видеть его в президентском кресле. По возвращении в страну он предпринял энергичные шаги по отстранению Виолы от власти, чему пытались препятствовать генералы Льендо и Вакеро (начальник Главного штаба сухопутных войск), усмотревшие в этом признаки государственного переворота. Благодаря решительной поддержке флота в лице главнокомандующего адмирала Х. И. Анажи, Галтьери удалось добиться своего: 11 декабря Виола был полностью отрешен от должности президента, временно исполняющим обязанности назначен вице-адмирал в отставке К. А. Лакосте, а 22 декабря в должности президента Аргентины утвержден Галтьери. При этом пост главнокомандующего сухопутными войсками он оставил за собой. Тогда же, в декабре, был капитально перетряхнут высший командный состав армии и флота, причем на должности назначались только убежденные «мальвинисты» или лично преданные Галтьери и Анаже генералы и адмиралы. Ушедший в отставку Виола накануне Рождества 1981 года призвал аргентинцев к миру и единству.
44
Министром экономики при Галтьери был Роберто Алеман, экономист ультраправых взглядов и убежденный последователь Милтона Фридмана.