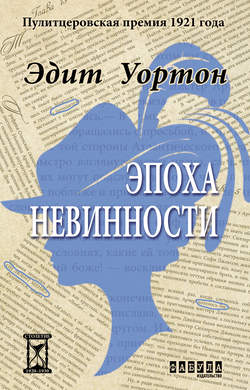Читать книгу Эпоха невинности - Эдит Уортон - Страница 2
Книга первая
Глава 1
ОглавлениеЯнварским вечером в начале семидесятых годов Кристина Нильсон блистала на сцене Нью-йоркской музыкальной академии. Давали «Фауста».
Уже давно ходили слухи, что на окраине, где-то за Сороковыми улицами, вскоре возведут здание нового оперного театра, который затмит своим великолепием театры европейских столиц. А пока, в разгар сезона, светское общество занимало потертые красно-золотые ложи старой доброй Академии. Консерваторы любили Академию за то, что ее здание было тесноватым и неудобным, и благодаря этому ее избегали «новые богатые», которые пугали и одновременно вызывали острое любопытство у коренных обитателей Нью-Йорка. Люди сентиментальные хранили верность Академии ради милых воспоминаний, ценители классической музыки посещали ее из-за великолепной акустики, которой не могли похвастать другие, более современные концертные залы.
В ту зиму мадам Нильсон[1] выступала в Академии впервые, и публика, которую пресса привычно наделяла эпитетом «на редкость блестящая», собралась, чтобы насладиться ее талантом, предварительно преодолев скользкие и заснеженные улицы в каретах, просторных семейных ландо или в скромных, но более удобных «кэбах Бруэма». Прибыть в Оперу в таком экипаже было почти так же почетно, как и в собственной карете. Но, помимо комфорта, у бруэмовских кэбов было еще одно неоспоримое преимущество – выйдя из театра, вы могли сразу же сесть в первый из выстроившихся в ряд экипажей, и не ждать, пока ваш замерзший и накачавшийся джином кучер, сверкая красным носом, наконец-то покажется из-за угла. Это была одна из самых великолепных идей человека, наладившего бизнес наемных экипажей: он первым догадался, что для американцев важнее быстро покинуть то или иное развлекательное заведение, чем явиться туда вовремя.
Когда Ньюланд Арчер открыл дверь и ступил в полумрак своей ложи, занавес уже поднялся, и взору молодого человека открылась сцена в саду. Ньюланд мог попасть в Оперу и пораньше – в семь он отобедал с матерью и сестрой, затем без спешки выкурил сигару в библиотеке, уставленной натертыми до блеска книжными шкафами из черного ореха и стульями с высокими резными спинками. Библиотека – из-за строгой мебели ее называли в семье «готической» – была единственным местом в доме, где мисс Арчер позволяла курить. Но, во-первых, Нью-Йорк был городом столичным, а всем известно, что в столицах приезжать в Оперу рано считается «неприличным». А то, что считалось «приличным» или «неприличным», было такой же важной частью жизни общества, к которому принадлежал Ньюланд Арчер, как и ужас его отдаленных предков перед тотемами и табу, вершившими судьбы тысячи лет назад.
Вторая причина опоздания Арчера была сугубо личной. Он потратил на сигару столько времени потому, что в глубине души был эстетом, и предвкушение наслаждения порой доставляло ему больше радости, чем само удовольствие. А событие, так волновавшее молодого человека, относилось к разряду особо утонченных, как, впрочем, и все, что доставляло ему радость. Момент, которого Арчер с нетерпением ждал, был настолько исключительный, что даже если бы он заранее согласовал свое прибытие с антрепренером примадонны, то не смог бы появиться в ложе Музыкальной Академии в более подходящий момент, чем когда она запела чистым, как хрусталь, голосом, обрывая лепестки ромашки: «Любит… не любит… ОН ЛЮБИТ МЕНЯ!»
Разумеется, прима пела «M’ama!», а не «Он любит меня!», так как неоспоримый закон музыкального мира требует переводить немецкий текст французских опер, исполняемых английскими певицами шведского происхождения, на итальянский – должно быть, затем, чтобы американская публика лучше его понимала. Ньюланду Арчеру это казалось столь же естественным, как и прочие условности, определяющие его жизнь. Так, приглаживать волосы следует двумя щетками, оправленными в серебро и украшенными его монограммой, выведенной синей эмалью, а в обществе ни в коем случае нельзя появиться без цветка в петлице, и этот цветок обязательно должен быть гарденией.
«M’ama… non m’ama…» – пела примадонна. С последними торжествующими звуками финального «M’ama!» она прижала растрепанную ромашку к губам и обратила свой взор к смуглому лицу Фауста. Эту партию пел Капуль[2], облаченный в тесный камзол из фиолетового бархата и шляпу с пером, который пытался придать своему лицу такое же бесхитростное и невинное выражение, как и у его жертвы.
Прислонившись к задней стене ложи, Ньюланд Арчер отвел взгляд от сцены и принялся рассматривать публику. Прямо напротив располагалась ложа старой миссис Мэнсон Минготт. Чудовищная тучность старой леди не позволяла ей бывать в театре, однако на премьерах и модных спектаклях в ее ложе всегда можно было увидеть одного-двух младших членов семьи. На сей раз там находились невестка миссис Мэнсон – Лавелл Минготт, и ее дочь, миссис Веланд. Позади облаченных в парчу матрон сидела молодая девушка в белом платье, не сводившая завороженного взора с влюбленной пары на сцене. Зал притих: любовная ария мадам Нильсен как раз достигла апогея, когда же ее «M’ama!» замерло под сводами, девушка зарделась. Румянец окрасил ее лицо теплым розовым тоном до самых корней светлых волос, затем спустился вниз к полушариям высокой юной груди, где и встретился со скромной тюлевой косынкой, сколотой единственным цветком гардении. Девушка опустила глаза на великолепный букет ландышей, лежавший у нее на коленях, и Ньюланд Арчер заметил, как кончиками пальцев в белых перчатках она нежно поглаживает цветы.
Вздох удовлетворенного тщеславия вырвался из груди молодого человека, и он снова взглянул на сцену.
Нельзя было не заметить, что на декорации не пожалели средств, и это признали даже те, кто был не понаслышке знаком с оперными театрами Парижа и Вены. Передняя часть сцены была затянута сукном изумрудно-зеленого цвета. Посреди располагались симметричные холмики зеленого мха, огороженные воротцами для игры в крокет, и из них поднимались деревца, очертаниями напоминавшие апельсиновые, но усыпанные крупными розовыми и красными розами. Во мху пестрели исполинские анютины глазки, размерами способные соперничать с розами, а кое-где можно было видеть истинное чудо природы – распустившиеся на розовых кустах роскошные ромашки.
Посреди этого волшебного сада стояла мадам Нильсен в белом кашемировом платье, отделанном бледно-голубым атласом, с крошечным ридикюлем на поясе. Ее тяжелые русые косы ниспадали по обе стороны муслиновой шемизетки[3]. Она слушала страстные речи господина Капуля потупившись, и с выражением полной невинности делала вид, что не понимает его коварных умыслов, когда тот многозначительно указывал на нижнее окно симпатичной кирпичной виллы, выступающей из правой кулисы.
«Милая! – подумал Ньюланд Арчер, чей взгляд уже успел вернуться к девушке с букетом ландышей. – Наверно, даже не подозревает, о чем речь».
И молодой человек углубился в созерцание охваченного чувствами девичьего лица с волнением собственника, в котором гордое сознание мужской посвященности в предмет смешивалась с нежным благоговением перед абсолютной чистотой и невинностью.
«Мы будем читать Фауста вместе… на берегах итальянских озер».
В его воображении мечты о предстоящем медовом месяце смешивались с мыслями о том, что ему предстоит открыть перед своей молодой женой мир шедевров высокой литературы. И хотя только сегодня после обеда Мэй Велланд наконец-то дала понять, что он ей «небезразличен» (о, эта сакральная формула, в которую облекают свои признания нью-йоркские барышни!), мечты Арчера мгновенно унеслись вперед, оставив позади помолвку, обручальное кольцо, первый брачный поцелуй и марш из «Лоэнгрина», и он представил ее рядом с собой в окружении волшебного великолепия старой Европы.
Нет, Ньюланд Арчер вовсе не желал, чтобы его будущая жена оказалась простушкой. Он надеялся, что она приобретет светский лоск и остроту ума (разумеется, благодаря его просвещенному влиянию), и займет достойное место в ряду самых известных дам «молодого поколения», окруженных мужским поклонением. Если б ему хватило решимости выяснить причину своего тщеславия, он обнаружил бы, что хочет, чтобы его жена была настолько же искушенной и услужливой в делах любви, как та дама, чей образ волновал его воображение в течение двух последних лет. Естественно, без какого-либо намека на беременность, которая однажды омрачила жизнь той несчастной женщины и, в итоге, разрушила его планы на целую зиму.
Как создать это чудо, сотканное из пламени и льда, как оно уживется в нашем жестоком мире – Арчер не утруждал себя поисками ответа на этот вопрос. Ему было достаточно иметь собственную точку зрения, не анализируя ее, – ведь точно так же поступали все холеные, облаченные в белые жилеты джентльмены с цветками в петлицах, один за другим появляющиеся в клубной ложе, обменивающиеся дружескими приветствиями и тут же наводящие бинокли на дам, критически обсуждая сей «продукт» той же системы.
В сфере мысли и искусства Ньюланд Арчер считал себя много выше этих рафинированных представителей старой нью-йоркской аристократии. Действительно, он больше читал, больше размышлял, гораздо больше путешествовал. Поодиночке каждый из них уступал ему, но вместе взятые они представляли Нью-Йорк, и чувство мужской солидарности заставляло Арчера принимать их точку зрения на моральные устои. Он инстинктивно чувствовал, что идти вразрез с общественным мнением слишком хлопотно, да и неприлично. И потом – это негативно отразится на его репутации.
– Бог мой! Вы только взгляните на это! – воскликнул Лоуренс Леффертс, отводя бинокль от сцены.
Леффертс был признанным авторитетом во всем, что касалось «хорошего тона». Изучению этого сложного и увлекательного вопроса он наверняка посвятил больше времени, чем кто-либо другой, но для полного овладения всеми тонкостями одного изучения было явно недостаточно. Одного взгляда на его высокий и чистый лоб, изгиб ухоженных светлых усов и длинные ноги в изящных лакированных туфлях было бы достаточно, чтобы понять: знание законов «хорошего тона» – это врожденное качество человека, умеющего небрежно носить модную одежду и двигаться с ленивой грацией, нечасто свойственной людям такого роста. Как сказал о нем один из его молодых почитателей: «Если кто и знает, когда, выезжая вечером, следует надевать черный галстук, а когда нет, то это только Ларри». А уж по части бальных туфель и лакированных «оксфордов»[4]авторитет Леффертса был непоколебим.
«О Боже!» – снова произнес он, после чего молча передал бинокль старому Силлертону Джексону. Проследив за взглядом Леффертса, Ньюланд Арчер обнаружил, что причиной этих восклицаний стало появление незнакомки в ложе миссис Минготт. То была стройная молодая женщина, ростом чуть пониже Мэй Велланд, с густыми вьющимися каштановыми волосами, перехваченными узкой лентой, усыпанной брильянтами. Благодаря этой прическе и фасону темно-синего бархатного платья, перехваченного выше талии поясом с большой старомодной пряжкой, в этой женщине чувствовалось нечто театральное. Она на миг замерла посреди ложи и, не обращая внимания на повышенный интерес публики к своей персоне, выразила сомнение, что ей, наверное, не стоит занимать свободное место рядом с мисс Велланд. Затем с легкой улыбкой опустилась в кресло в противоположном углу – рядом с миссис Лавелл Минготт, невесткой мисис Велланд.
Мистер Силлертон Джексон вернул бинокль Лоуренсу Леффертсу. Весь клуб воззрился на старика, ожидая, что тот скажет – мистер Джексон был таким же непререкаемым авторитетом по части «семейных связей», каким слыл Лоуренс Леффертс по части «хорошего тона».
Ему были досконально известны родословные всех аристократических семей Нью-Йорка, и только он мог пролить свет на такие сложные вопросы, как связь семейства Минготт с Далласами из Южной Каролины, или родственные пересечения старшей ветви филадельфийских Торли с Чиверсами из Олбани. Также Джексон мог поведать и о главных отличительных чертах каждого семейства. Так, молодому поколению Леффертсов из Нью-Айленда свойственна просто фантастическая скупость, а Рашуорты подвержены роковой тяге заключать глупейшие браки. Ему было известно и то, что в каждом втором поколении олбанских Чиверсов обязательно появляется душевнобольной, и именно поэтому кузины и кузены из Нью-Йорка избегают вступать в браки с олбанскими родственниками, а если вспомнить катастрофические последствия брака Медоры Мэнсон, которая, как всем известно… да что там говорить, ведь ее мать была урожденной Рашворт!
Помимо тонкостей генеалогии, между впалыми, поросшими седым пухом висками Силлертона Джексона хранилось множество скандальных историй и тайн, накопившихся под невозмутимой поверхностью нью-йоркского общества за последние полвека. Эта информация была до того обширна, а его память так прочна, что Джексон, пожалуй, был единственным человеком, который мог бы поведать о подноготной Джулиуса Бофорта, банкира, и о том, что случилось с красавчиком Бобом Спайсером, отцом старой миссис Мэнсон Минготт, который так загадочно исчез (с огромной суммой доверенных ему денег) через месяц после женитьбы, а именно – в тот день, когда некая восхитительная испанская танцовщица, собиравшая аншлаги в зале старой Оперы, отбыла на Кубу.
Но эти тайны, как и многие другие, хранились в памяти мистера Джексона надежно запертыми – обостренное чувство собственного достоинства не позволяло ему раскрывать чужие секреты. К тому же, он прекрасно понимал, что репутация человека надежного – лучшее средство выяснить все, что его интересует.
Вот почему вся клубная ложа застыла в напряжении, пока старый Силлертон Джексон возвращал Лоуренсу Леффертсу лорнет. Еще пару мгновений Джексон молча взирал своими мутно-голубыми глазами из-под морщинистых век на ожидавшую его реакции молодежь, затем задумчиво покрутил ус и обронил:
– Нет, не думал я, что Минготты решатся на такое…
1
Нильсон, Кристина (1843–1921) – известная шведская певица, исполнявшая в опере Шарля Гуно «Фауст» роль Маргариты.
2
Капуль, Жозеф Виктор (1839–1924) – известный французский певец-тенор. Обладал эффектной внешностью, много гастролировал в Америке.
3
Здесь: легкая блузка, надеваемая под платье с открытым вырезом.
4
Строгие черные туфли без украшений, которые носят с фраком или смокингом.