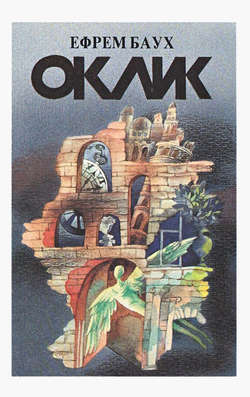Читать книгу Оклик - Эфраим Баух - Страница 14
Оклик
Отступление в зиму сорок восьмого
6
ОглавлениеМама внезапно вскакивает среди ночи, разбудив меня. Пытается куда-то бежать. Негромко говорю: "Ничего не случилось, мама, ложись". Ей и раньше по ночам снились кошмары, но с той ночи, как она потеряла хлебные карточки, эти внезапные пробуждения участились. Мой голос действует на нее успокаивающе, потому я и перешел спать в столовую, к ней. Бабушка храпит в спаленке, утром опять будет жаловаться, что всю ночь не сомкнула глаз.
Печь совсем остыла. Холод разгуливает по дому. Я уже не усну до утра, я думаю об отце.
В феврале будет пять лет, как его нет в живых. Все это время память о нем во мне словно бы закоченела, хотя вот уже три года, как я живу в доме, где все напоминает о нем, хожу по переулку, по которому столько раз мы ходили вместе с ним; он повсюду таскал меня с собой, даже туда, куда, по мнению мамы, и не следовало, например, на похороны деда Шлойме или к трупу убитого в парке железногвардейца, он позволял мне бегать с мальчишками на поле с окопами или к берегу Днестра, и вечно после этого со мной что-то случалось: после похорон упал в обморок, после беготни по полю свалился в окоп; опять, как всегда, мама и бабушка оказывались правы, устраивали ему сцены, но он обычно быстро ставил их на место, показывая характер, они спешно ретировались. Со мной же он был неизменно весел, не возвращался из города домой без игрушки, да еще и сам из чурбаков ловко вырезал самолеты, машины, всаживая в них вырезанные им из цинка фигурки людей.
Изучая юриспруденцию в университете, во французском городе Гренобле, он подрабатывал искусным вырезанием по дереву, это было для него не просто ремеслом, а истинным увлечением и искусством, но, женившись и уйдя в семейные заботы, он почти перестал этим заниматься и только для меня продолжал вырезать игрушки, отдавая этому все свободное время. В отличие от братьев своих и сестер, шумно чмокающих своих детей и подбрасывающих их в воздух, был со мной сдержан, редко целовал, только гладил по голове.
И вот, на днях, когда мама, обуянная страхом перед высылкой (в юности она занималась гимнастикой в еврейской спортивной школе "Маккаби", втемяшилось ей в голову, что за это могут обвинить ее в сионизме, посадить не посадят, а выслать могут), в очередной раз пересматривала старые фото, на предмет изъятия и сжигания открыток с кинозвездами начала века, такими, как Рудольф Валентине, Грета Гарбо, обнаружился снимок, присланный ей отцом еще до замужества из Франции. Среди голода, оцепенелости и стужи странным прекрасным временем веяло от снимка, и хотя я молодым таким и загадочным никогда отца не видел, что-то жаркое толкнулось у меня в груди, выведя из состояния окоченелости, ком подкатил к горлу, я отошел от стола и заплакал.
Снимок этот на другой день я показал товарищу моему по классу, живущему недалеко, на самом берегу Днестра, Андрею, судьба которого, несмотря на то, что он был старше меня всего на год, была весьма необычной: отец его, родом из Казани, еще при последнем русском царе был летчиком, а их тогда вообще можно было пересчитать по пальцам; когда же большевики пришли к власти, помешав ему получить дворянский титул, он перелетел на самолете в Польшу, оставив семью; откуда его интернировали во Францию; там он встретил русскую девушку намного младше его, тоже интернированную, из Бессарабии, женился, они поселились в Гренобле, где и родился Андрей; работая на заводах Пикари-Пикте, отец помогал во время войны партизанам и в сорок шестом, когда большевики объявили, что прощают всем, кто в двадцатые годы бежал, вместе с сотнями других русских семей, страдающих ностальгией, вернулся в Россию, приехал в наш город к двум теткам жены, Катерине и Александре, аристократкам, потерявшим все имущество и привилегии, но не лоск, старым девам, живущим рядом с нами, на берегу Днестра.
Андрей, тихий интеллигентный очкарик с торчащими во все стороны непокорными вихрами волос, отличный рисовальщик, разглядывая снимок, на котором видна была лодка, еще не отчалившая от берега, и в ней сидело двое молодых людей, а отец стоял между ними, высокий, худощавый, в элегантном костюме, галстуке, котелке, с тросточкой, уверенный в себе, с насмешливым, но все же приветливым выражением лица, на фоне дальнего города и гор, – отвел меня на перемене в сторону и стал описывать Гренобль. Мы присели на корточки, не обращая внимания на беготню и толкотню, которая бывает на переменах, я даже отдал, не препираясь, часть своего скудного пирожка с картошкой, который нам иногда выдавали в школе, старшекласснику, вечно голодному, с испитым лицом, Андрею Кичаку, знающему мою жалостливость и выклянчивающему любую крошку (для меня это через всю жизнь образ предельно голодного человека – худющего, как скелет, длинного, в два раза выше меня подростка, со страдальческим выражением лица преследующего меня днем и ночью), чтобы не мешал нам с Андреем, и на несколько минут уплыл из этого скудного, голодного, обмызганного окружения в дальний город среди высоких синих гор, старый, студенческий, омываемый альпийскими ветрами и рекой Изар, волны которой и покачивают лодку на снимке; студенческая вольная братия превращает в сплошной балаган этот в общем-то уравновешенный спокойный город: то внезапно по центральной улице с ревом, гиком, гудением клаксонов и медных диковинных труб на сумасшедшей скорости проносится невероятно размалеванный разваливающийся от древности автомобиль с открытым верхом, набитый полуголыми парнями и девицами, и, пока полиция опомнится, исчезает в горах, взбудоражив весь город; то устраивается невероятный заплыв, где побеждает не тот, кто приплывает первым, а кто подиковинней нарядится, ну, например, в плавках, галстуке и котелке; особенно изобретательны художники: необходима, к примеру, для натуры живая лошадь, где ее взять; и однажды на одном из домов в центре появляется голая девица – переполох, конные полицейские мчатся галопом, привязывают коней у входа, бегут на крышу, конечно же никакой девицы не находят; а пока под шумок утаскивают одну из лошадей, более того, подымают по лестнице на третий этаж, в студию; полиция в растерянное-ти: средь бела дня в центре города исчезла лошадь; через неделю звонят в полицию: неизвестно, как и откуда, но на третьем этаже оказалась лошадь, и бедный полицейский сам вынужден спускать ее вниз, и если вверх она еще как-то шла, вниз ее не спустишь никакой силой. "А однажды, – Андрей смущается, протирает очки платком, близоруко щурясь, тихо смеется, – какая-то принцесса, весьма почтенная, решила посетить университет, так знаешь, что студенты сделали?.. На пути ее следования выставили из окон… хи-хи… голые зады…"
Веселый этот город, за тридевять земель, овеянный легендами, студенческая вольница, Гренобль, думаю я, и частью этой вольницы был мой отец, который, по рассказам матери его, бабушки Фримы, в молодости был ужасный выдумщик и шкодник, досаждал братьям, а особенно сестрам, и обычно выходил сухим из воды, потому что был любимчиком деда Шлойме, и какого черта вернулся, чтобы так рано уйти из жизни, хотя иначе бы я не появился на свет, ну ладно, ну понятно, но на кой ляд покинул Гренобль отец Андрея, чтобы приехать в эту гибель и разор, человек не первой молодости с весьма жестким и требовательным характером бывшего выпускника духовной семинарии: до того как стать летчиком, был он семинаристом, и нечаянно узнав, что я читаю молитвы на древнееврейском, не давал Андрею проходу: "Видишь, оболтус ты этакий, видишь…"
Полный впечатлений от рассказов Андрея, я тащу его к нам домой, мы роемся в фотокарточках, я нахожу небольшой снимок отца, я хочу, чтобы Андрей увеличил его, сделал портрет, сначала тушью, потом, быть может, и в красках, это единственный снимок отца, такой, каким я знал его и любил, еще я помню его портрет, висевший в доме деда Шлойме, там он, кажется, десятилетний, и мама говорит правду, что я похож на тот портрет, как две капли воды; сестры отца тетя Роза и тетя Гитя, добродушные и невероятно толстые, за которых дедушка Шлойме отдал приличное приданое, чтобы выдать их замуж, больше всего терпели от отца; не менее добродушные его братья, средний, огромный, толстый и сентиментальный, рано полысевший Рувин и младший, худой Шая не очень-то горели жаждой учиться, и дедушка, владелец мануфактурного дела, посылал их с товарами на ярмарки, и только отец, более всех похожий на деда характером, внешним видом, был надеждой семьи: сначала поехал на медицинский в Яссы, но оттуда фашиствующие румынские студенты выгнали дубинками всех евреев; и целая группа уехала в Гренобль изучать адвокатуру. При всей своей репутации шкодника отец был деликатен, сдержан, а временами и застенчив, чем походил на деда Шлойме, которого бабушка Фрима, главная управительница в семье посылала к должникам, а он, покружив по городу, возвращался и говорил, что там никого нет дома. Кроме этой существовала еще семейная легенда, связанная с отцом: будто бы в детстве он был веселым неугомонным мальчиком, но однажды поел винограда и запил его молоком, после чего у него чуть не случился заворот кишок, его с трудом выходили, и вот после этого он стал ужасным меланхоликом, часто, как вспоминает мама, говорил с ней о смерти, был очень замкнут, не любил танцевать и вообще избегал компаний.
Я же помню отца всегда веселым, остроумным, изобретательным. Высокий, черноволосый, голубоглазый, смуглый, с тонкими чертами лица, припухлыми, мягко изгибающимися губами, он всегда привлекал внимание женщин (даже я, малец, это замечал), а если уже и попадал в компанию, то всегда был в центре внимания. Отчетливо помню его лицо вполоборота в полутемном зале кинотеатра Кор донского, мы просмотрели с ним все серии комиков Стана и Брана, Пата и Паташона, он смеялся до слез, взхлеб, так, что другие взрослые, приходившие с детьми, с укоризной на него поглядывали, но он не обращал на них внимания; иногда они шли в кино с мамой, которая настаивала, чтобы я остался дома, но в конце концов он добивался своего, так мы втроем смотрели "Дубровского", "Сорочинскую ярмарку": некоторые кадры и мелодии из этих фильмов врезались в детскую память, жадную до впечатлений, навсегда.
Отец, несомненно, был человеком незаурядным, натурой тонкой, ранимой, воспринимающей жизнь и мир как бы внутренним слухом, в себя; в таких натурах детская острота интуиции не ослабевает с годами, вот почему моя компания никогда ему не надоедала, в отличие от взрослых компаний, где надо было не жить по-детски, а играть по-взрослому в танцы, флирт, выслушивать глупости; он вообще предпочитал узкий проверенный круг знакомых, в отличие от мамы, в которой жажда жизни перехлестывала через край, требовала веселья, шума, музыки и танцев, новых и новых знакомств, свежих впечатлений; несмотря на полноту, она была быстрой в движении, в ходьбе словно бы летящей впереди себя самой, сила так рвалась из нее, что она вечно за что-то цеплялась, падала, лбом выдавливала стекла, ломала каблуки, роняла и била посуду, любила сладко и поздно поспать, особенно в юности, обычно валилась на свой разборный топчан в столовой, не глядя, и однажды раздавила мандолину старшего брата Су-ни, чего он долго ей не мог простить, и, как уверяет мама, более любимый бабушкой, вошел с той в коалицию, начал ее изводить, не давая спать попоздней, вытаскивая из-под нее подушку, а то и ножки топчана, пока ей это не надоело, и однажды, при бабушке, она загнала брата, тренера по гимнастике в "Маккаби", в угол между стеной и буфетом и пустила ему кровь из носа под истерическое кудахтанье испуганной бабушки. Все знакомые тети, дяди, родственники звали ее – "ды вылды цоп"[8]…
Отец любил ее за эту необузданность и дикость. Родители его были людьми богатыми и, конечно же, не желали в невестки девушку из бедной семьи, надеясь уж за такого сына получить солидное приданное; дед Шлойме предпочитал не вмешиваться, но властная бабушка Фрима прижала к стене своего сынка, за что он, не менее упрямый, разругался с ней вдрызг и настоял на своем, заявив, что если услышит еще одно слово, вообще порвет с семьей всякие отношения. Но еще и потом, намного позднее, когда мама заболела летучим ревматизмом и была в тяжелом состоянии, дядя Хаим Мордкович, муж тети Розы, любитель поесть и поиграть в карты, пришедший проведать больную, сказал как бы в шутку: "Стоит тебе, Зиночка, закрыть один глаз, как Исаак возьмет миллионы".
В тот вечер, обнаружив снимок, мама долго рассказывала мне про отца, платком вытирая слезы, с какой-то мечтательной печалью в голосе, а заключила неожиданно: "Да, твой папа был нелегкий человек". "Потому ты, наверно, и любила его", – сказал я, после чего она поглядела на меня с удивлением, решив, что больше со мной не о чем говорить, я уже сам, быть может, получше ее разберусь во всех тонкостях.
Благодаря своему характеру мама гораздо легче приспосабливалась к любой работе, будь то ткацкая фабрика, скотный двор, уборка хлеба или уход за быками. Отец же, хоть и старался и виду не подавал, выглядел он везде белой вороной, пытался вести себя погрубее и сам же страдал от этого, а, став сторожем при молотилке, сник. Поэтому с получением повестки на фронт, как бы приободрился. В ту ночь проводов я впервые после долгого периода вновь услышал его звонкий голос, рассказывающий анекдоты.
Он писал нам часто письма, он был доволен, что взяли его в артиллерию и, поняв, что он это дело знает, присвоили тут же звание.
Они уходили в Сталинград. А тем временем в селе нашем Норка жизнь продолжалась.
То оно казалось совершенно пустым, забывшимся в дреме знойного полдня, лишенным всякой охраны: только один-единственный милиционер, долговязый, с лошадиным лицом и старым наганом в огромной кобуре на боку, возникал на пустынных улицах, как сомнамбула, и тут же куда-то исчезал; мужиков в селе кроме нескольких эвакуированных, председателя колхоза и лоснящегося довольством кладовщика не было; в полдень все бабы находились далеко в поле, и я шел босиком по стерне несколько километров, относя маме еду; в первый раз у меня опухли щиколотки ног, но весьма скоро я уже бойко шагал, уминая стерню, любуясь облаками, следя за коршунами, ощущая до сладкого головокружения широту степи, вдыхая ее пробудившиеся от полдневного жара запахи. В периоды такого затишья, стоило эвакуированному дяде Грише крикнуть: "Немецкий парашютист", как село, изнемогавшее от скуки, мгновенно оживало, на окраину бежали старухи с вилами, старики с топорами, и откуда их столько набиралось, искали милиционера, наконец-то и он появлялся, заспанный, путаясь в кобуре, вытаскивал свой наган, и все, затаив дыхание, следили за неким предметом, медленно и высоко летящим с горизонта, чем-то напоминающим парашют; предмет приближался, плыл над селом, оказывался полураздувшимся аэростатом, очевидно сорванным с троса, так он и уплывал вдаль к разочарованию села.
То оно внезапно начинало бурлить: через село шли войска на Сталинград, офицеры селились по домам, солдаты разбивали палатки, все молодые, стриженные, веселые, беззаботно не подозревающие об ожидающей их гибели, они вели дружбу с нами, мальчишками, и однажды, подозвав меня, дали полный ковш, в котором на дне еще был мед в два пальца, залитый водой, и я выдул его, не отрываясь и вызвав у них всеобщее одобрение. У нас в доме поселился молодой высокий лейтенант из города Элиста и вдруг заболел мышиным тифом, весь горел и бредил; мама и бабушка выходили его, войска давно ушли, а он еще пролежал у нас дней десять. Удивительный это был человек: на фронт с собой он таскал целый чемодан книг, и в благодарность за уход подарил нам стопку, по сути, первую мою библиотеку. Эти книги я почти знал наизусть: "Тайну двух океанов "Адамова, "Сквозь дым костров" Валерия Язвицкого, рассказы Ицхака-Либуша Переца и Мамина-Сибиряка. Я стал признанным рассказчиком среди мальчишек, часто в жаркий полдень где-нибудь под кустами пересказывая им эти книги, а над нами, высоко в небе, так, что едва было слышно их гнусавое гудение, немецкие "Юнкерсы" (мы узнавали их по очертанию) летели бомбить Саратов, и утром из-за горизонта через все небо тянулись долгие хвосты черного дыма.
Первый день, когда я пошел в школу, запомнился двумя событиями, одним, пожалуй, не менее страшным, чем то, давнее, когда я провалился в окоп: я уже возвращался из школы домой, когда меня вдруг окружили взрослые мальчики, года на два-три старше меня, я знал, это были ленинградские ребята из детдома, испитые, бледные от голода, жестокие, они требовали отдать им еду, которая у меня есть в ранце; я клялся, что у меня ничего нет, вывалил все наружу, плакал, просил отпустить меня, предлагал тетради, перышки, они были неумолимы, стояли плечом к плечу вокруг меня, их ненависть просто меня испепеляла; я уже потерял всякую надежду, сел в пыль, размазывал слезы по лицу, как вдруг откуда-то вынырнул малый одного с ними возраста, быстро их растолкал, одному дал по шее, другому шелобан по лбу, третьему – под зад, и они вяло, не сопротивляясь, в каком-то голодном оцепенении и бессилии рассыпались. Малого звали Кулиш, вернее, это была кличка, имени настоящего я не знал, и знакомство с ним стало вторым важным событием того дня.
Несмотря на разницу возраста, мы стали друзьями "не разлей вода". Этот ловкий и сильный малый был грозой всех мальчишек села, но ко мне относился даже с какой-то нежностью, во многом был моим первым учителем в жизни, но и сам с жадностью выслушивал мои вольные пересказы книг, восхищенно и не сильно давал мне шелобан по лбу, приговаривая: "Башкастый ты, тютя…"
В нашем классе была миловидная тихая девочка по фамилии Кондакова, и вдруг ни с того, ни с сего все стали нас с ней дразнить: "Жених и невеста тили-тили тесто". Я никак не мог взять в толк, чего они от меня хотят, пожаловался Кулишу. "А ты с ней, тютя, не того?" – спросил он меня. "Чего того?" "Э-э, брат, совсем ты, оказывается, есть тютя", – озадаченно протянул он, – слушай-ка…" Мы пошли в бурьян, в любимый наш овражек, и там он попытался объяснить мне, каким образом я появился на этот свет. В общем-то я и сам не верил в сказки про аиста, но то, что он рассказал, заставило меня впасть в ярость, показалось мне оскорблением моей матери и вообще всего святого; в бессилии, зная, что Кулиш свалит меня одним мизинцем, я ругал его всеми словами, я прыгал вокруг него, орал, поносил его, катался в бурьяне, я был в каком-то бешеном припадке; Кулиш спокойно покусывал зубами травинку; когда же я, обессиленный, растянулся на траве, он только и сказал: "Ты и вправду тю-тю, тютя", – и покрутил пальцем у лба.
Кулиш научил меня драться: "Бей сразу в рубильник… Первый. Можешь даже не сильно, но чтобы юшка пошла. Он-то на своем рубильнике и замкнется, забудет с чего полез в драку". Как примерный ученик, я жажду тут же приложить свои знания. Особенно мечтаю отомстить тем ленинградским мальчишкам, которые меня так унизили.
После одной из наших игр "в войну", в которых Кулиш – неизменный командир, а я – неизменный его заместитель, возвращаюсь домой. Вижу издалека троих из той компании, обрадованно направляюсь к ним, на ходу примериваясь, куда кому дать по "пачке", как выражается Кулиш, но, странное дело, чем более к ним приближаюсь, тем они, вопреки закону перспективы, не увеличиваются, а уменьшаются: то ли страх в те минуты, когда они окружили меня, увеличивал их в моих глазах, то ли я догнал их ростом за эти месяцы. Увидев меня, они останавливаются, стоят, оцепенело набычив головы; им даже не надо притворяться, как те жуки, мёртвыми, они и есть дохляки. Подхожу вплотную. Они выше меня всего на полголовы. Думаю: ну дам по носу, который Кулиш называет "рубильником", и кровь-то но потечет, откуда ей быть, когда морят их в детдоме голодом, и ни отца, ни матери нет – заступиться за них, и никаких чувств у ребят этих нет, кроме, может, ненависти к нам за то, что у нас мамы, а у некоторых – и папы. Стоят, опустив головы, только один из них бормочет: "Ну чего пристал, ну чего…" По-моему, они меня и не помнят. Тяжело вздохнув от неудовлетворенной мести, щелкаю по лбу бормочущего, расталкиваю их, иду дальше.
Вооружившись палками, заменяющими нам ружья, мы ведем войны в овраге, заросшем диким кустарником. Овраг верхним краем выходит на холм, к хатам, в одной из которых живет Кондакова. Однажды, в разгар нашего "боя" мы слышим всамделишний выстрел. В заброшенном нашем селе это равносильно Сталинградской битве, которая в эти дни в разгаре. Забыв, кто враг, кто друг, бросаемся к верхнему краю оврага. Мимо нас проходит трое незнакомых с пистолетами в руках, идут медленно, настороженно, и между ними какой-то угрюмый, заросший бородой до глаз мужик, от которого, несмотря на расстояние между нами, несет могильным запахом земли.
На следующее утро вся школа гудит от новостей: оказывается, отец Кондаковой дезертировал с фронта, скрывался в подполе. Деда Кондаковой, отца ее матери (он работал заготовщиком в райцентре Бальцер), подозревали в хищениях, два следователя тайно нагрянули с обыском, ничего не нашли, но, выходя из дома, один почувствовал, как доска от пола ходит под ногой, быстро нагнулся, поднял – под ней – провал, сунулся вниз, а оттуда – выстрел. Отпрянули следователи, глядят, человек сам из-под земли вылезает, заросший, как дикарь.
Бедную Кондакову мать все же заставила пойти в школу. Вокруг нее на перемене пляшет весь класс, дразня, измываясь, а она, бледная, востроносая, сидит, слезы не проронит. Прекращает шабаш учительница наша Марья Михайловна, заявив, что дети за отцов не отвечают, и всем нам должно быть стыдно за наше поведение. Особенно стыдно мне, ведь плясал со всеми, а в душе по-настоящему жалел ее, но боялся при всех проявить жалость.
Слухи же о страшной Сталинградской битве все ширятся, от отца нет вестей, мама не спит ночами, беспрерывно слышится гул высоко летящих на Саратов немецких бомбардировщиков, мы прикручиваем пламя коптилки, сидим, притаив дыхание.
Однажды прибегает какая-то тетка из правления колхоза: "Мать-то где?" "Где, в поле, на уборке". "Далеко?" "Кажись, у совхоза 595". "Беги, малец, мать срочно вызывают в правление". "Так это ж далеко, семь километров, – пытаюсь лениво отбрехаться, – а шо случилось?" "Еще и ты тут, плюгавка, шо да шо, беги, кому сказала, вишь, сама запыхалась, с ног падаю…" Такая срочность в нашем селе явно говорит о чем-то необычном. Бросаю бабушке несколько слов на идиш, повергнув этим тетку в столбняк, подтягиваю портки, бегу. За околицей умеряю шаг: степь всегда меня околдовывает. Стоящие вдали, среди желтой стерни, темно-зеленые три дерева по ходу моего движения перемещаются, как живые, то расходясь, то выстраиваясь в затылок друг другу, высоко в жарком небе кружит коршун, выискивая добычу, а за краем дороги, на следующем перекате, уже голубеющем от дальности, колышутся в мареве хатенки и водонапорная башня совхоза "Пятьсот девяносто пять" (всю жизнь это число возникает у меня дальним образом села, таинственно-печальным измерением глубины времени моей жизни). Хатенки эти то исчезают, то возникают вновь, уже более приближенными, то совсем исчезают, и это для меня знак, что они совсем рядом, за бугром.
Увидев меня в такое неурочное время, мама уже издалека бросается навстречу, а услышав, что ее вызывают, говорит: "У меня с ночи нехорошие предчувствия". Назад мы уже едем на телеге, впряженной в пару быков, которыми мама ловко управляет при помощи палки и окриков "Цоб, цобэ".
Новость и вправду тревожная и ободряющая одновременно: отец ранен и лежит в госпитале, в Саратове. Тяжело ли, легко, никто сказать не может, главное, что жив, галдят в правлении, ты уж пешком доберешься до Красноармейска, километров сорок поди, дойдешь к вечеру, переночуешь, а там до Саратова и то меньше, тридцать с гаком, транспорт сейчас-то весь на уборке, может, попутная какая подвезет, ты лучше подивись на чудо, из Саратова дозвонились в нашу-то нору, это знак хороший, отправляйся с Богом…
Мама собирается в дорогу, наказывает мне, где получать продукты в колхозе, и растворяется за околицей села, на несколько дней влившись в ту особую породу странствующих по бескрайним российским весям людей, число которых неимоверно увеличилось в годы войны: их ловят, проверяют, беспаспортных сажают на некоторое время, но выйдя на свободу, они снова пускаются странничать: вольные дали манят, невзирая на погоду, – сжигающее солнце или ледяную метель, – это род наркотической тяги, и нередко находят их замерзшими или скончавшимися от теплового удара.
В те полтора месяца, которые мы с бабушкой прожили без мамы, я часто торчал у околицы, за которой исчезла мама, с тоской приглядываясь к любой фигуре, издалека приближающейся к селу.
А однажды застываю на пороге: вижу маму и незнакомого мужчину, в котором в следующий миг узнаю отца. Он худ, бледен, и потому кажется более высоким, но несмотря на худобу и слабость в ногах, гуляет по двору, опираясь на мое плечо, жадно вглядываясь в даль. Это такая радость, когда мы вчетвером, как в давние добрые времена, садимся вокруг стола, щербатого, колченогого, за скудный, и тем не менее такой вкусный обед. По вечерам, при слабом свете коптилки, отец, лихорадочно блестя взглядом, оцепенело уставившимся в пламя, веселым голосом, как бы пытаясь выговориться, рассказывает фронтовые истории, от которых волосы становятся дыбом. Многое для меня, малого, остается непонятным. К примеру, все документы личного состава их артиллерийского полка, включая, заменяющие паспорта красноармейские книжки, хранились в штабе полка; их позиции у самого берега Волги подвергались беспрерывным налетам, офицеры в батарее выбывали из строя так быстро, что в кратчайший срок отец уже командовал огневым взводом. Они до того привыкли к невероятному грохоту, что глохли, когда на короткий период устанавливалась тишина, они научились понимать друг друга при помощи знаков, а иногда, когда темень от дыма и копоти застилала полдень, наощупь знали, что делать, а рядом одним сплошным пожаром горел город Сталинград, которого, как ни странно, отец так и не видел, не было города, был какой-то шевелящийся хаос. Когда бомбардировка чуть утихала, и какая-то мысль посещала расплющенное, как медуза, сознание, первым было удивление: ты еще жив? Но удивление было слабое, ты равнодушно принимал это осенившее тебя открытие. А однажды бомбардировка достигла невероятной силы, разнесло все тягачи, снаряды кончились, осталась их горстка, вдобавок пришло сообщение, что разбомбили их штаб со всеми документами. Они с трудом выбрались из сплошного огня и, оказавшись в степи, шли куда глаза глядят, черные, заросшие, в обгорелых лохмотьях, босые, падая на осенние травы, переворачиваясь на спину, подолгу в оцепенении глядя в небо, не веря, что оно может быть таким безмятежно спокойным. Иногда казалось, что ты вообще уже не на этом свете, что взрывной волной тебя перенесло из мира адского грохота и огня в мир с тишиной, шелестом трав и ощущением голода, таким, вероятно, и должен быть рай. Пока не добрели до первого села. Удивление было взаимным. Жители с открытой враждебностью поглядывали на горстку оборванцев, голодных, страдающих от жажды, возникших из ниоткуда. И документов никаких. Бродяги же не верили своим глазам: вот же, живут в домах, едят, пьют, и в общем-то совсем недалеко от ада. Как старший, отец обычно шел на переговоры, доставал из некого подобия кармана мою фотокарточку, обгоревшую по краям (она у меня и по сей день хранится), на которой я изображен в возрасте двух лет – этакий круглощекий карапуз, нос кнопкой, в костюмчике тирольца, зеленой шляпе с пером. И каждый раз отец заново с удивлением смотрел на этот осколок прежней, такой прекрасной жизни, в существование которой трудно поверить (как мне два дня назад, когда я увидел фотографию отца из Гренобля), показывал сельчанам, разъяснял, что с ними произошло, и тотчас же появлялись еда и питье. Фотокарточка действовала неотразимо, получше любого документа. Так они шли от села к селу, пока их не арестовал патруль и не посадили их в камеру предварительного заключения до выяснения. Там они помылись, отоспались, и даже поели. Сидели более десяти дней. Затем, выяснив все, их выпустили, отвезли в другую часть, переобмундировали, оформили новые документы и отправили опять в заваруху.
– Где же тебя ранило? – допытываюсь я.
– Э, – отец машет рукой, – пойдем-ка лучше выйдем…
– Мы идем вдвоем к околице села при свете звезд, садимся на краю оврага. Часами молчим, слушая пение сверчков.
– Это можно слушать всю жизнь, – говорит отец и вдруг заходится в кашле, платком прикрывая рот. Кашляет долго, не может отдышаться, и все успокаивает, то ли меня, то ли себя, – ничего, пройдет, пройдет…
По ночам он бредит со сна, тихо, постанывая, кричит: "Огонь… Горим…".
Его ранило в левый бок, сильно задело легкое. Все бабы поздравляют маму с возвращением мужа, да еще целого, с ногами и руками, а что до легкого, так до свадьбы сына заживет, а мама все время о чем-то тревожно перешептывается с бабушкой. Отец пошел работать счетоводом в правление, пока не поправится, у него планы на будущее: мама, находясь в Саратове, ходила с документами отца в коллегию адвокатов, те удивились, почему он раньше не обращался, да ему теперь, как фронтовику, говорили в коллегии, все дороги открыты, пусть только поправится, но он никак не прибавляет в весе, продолжает кашлять.
В одну из лунных ноябрьских ночей сорок второго мы, как всегда, идем с ним прогуляться до околицы села; садиться на траву уже нельзя, к ночи подмораживает; мы долго стоим, глядя на низко стоящий над горизонтом тревожно-красный диск луны, вдыхая свежий холодный воздух, отец не кашляет, тяжело, но с удовольствием дышит, а я рассказываю ему, как долго по ночам изучал силуэты на луне, и похожи они на двух борющихся мужчин, и что в такие ночи, мне кажется, лунный свет проникает даже в сны.
– Еще лунатиком станешь, – говорит отец.
– Это правда, что лунатик может подниматься по стенам, идти по краю крыш… И падает, когда его окликают?..
– Представляешь, какое счастье всю жизнь быть лунатиком, ходить по краю крыш… не таких, конечно, а высоких, острых… как в Гренобле…
В глухих заброшенных скифских степях в первый и в последний раз я слышу из уст отца имя этого прекрасного города его юности.
– Да, котик, – говорит отец, поглаживая меня по голове, – совсем плохи дела…
– В каком смысле?
– Ну… когда окликают с земли, ты падаешь и разбиваешься… часто и насмерть… Потом уже окликают Ангелы…
– А разве есть Ангелы?
– Для тех, кто в них верит, они есть…
На утро узнаю из перешептываний мамы с бабушкой, что у отца нашли палочки Коха: у него открытый туберкулезный процесс в легких. Отец тает на глазах, никогда я не видел его черты такими красивыми, отточенными. И все же он бодр, и совсем не кашляет, и продолжает ходить со мной на околицу села, рассказывать любимого своего Диккенса.
В январе сорок третьего отец ложится в больницу, сам отправляется туда с утра, когда я в школе, мама на скотном дворе. По вечерам мама плачет, проклиная собачью жизнь, говоря, кстати, что собачье мясо помогает при чахотке, ей бабы говорили о случаях излечения, надо только достать его, это мясо, сделать котлеты, иначе же его никто в рот не возьмет. Стоит мне кашлянуть, как она испуганно вздрагивает, щупает мой лоб. А тут еще бабушка обжигает правую руку от кисти до локтя, ее тоже кладут в больницу, и мы с мамой торчим там сутками. Больничные коридоры с покрытыми серой олифой стенами, окна палат с решетками и марлей на форточках, ледяными ветками деревьев, словно бы прилепленными к стеклу, снятся мне по ночам. Тут же, у папиной постели, мы справляем мой день рождения.
– Тебе уже девять лет, котик, – говорит отец, осторожно выпрастывая бледную, как воск, руку из-под одеяла, с опаской касаясь моей головы. Я молча киваю, я не говорю ни слова, только пальцами задерживаю его руку на своей голове, горячую и сухую, словно бы, сам того не осознавая, принимаю на всю жизнь его молчаливое благословение.
– Мы еще погуляем у тебя на свадьбе, сынок, – деланно бодрым голосом говорит мама.
– Несомненно, – не менее бодро говорит отец, откидываясь в изнеможении на подушку.
В начале февраля бабушка возвращается домой, рука ее, запеленутая в бинты и тряпки, кажется раздувшимся младенцем. Стоят страшные морозы: на улице стягивает ноздри, приходится дышать в башлык или шарф, вода, выплеснутая из кружки, замерзает на лету. При таком морозе воздух дымится белым туманом. Вношу с собой в палату холод, все больные только при моем виде ежатся, накрываются одеялами, улыбаются беспомощно и завистливо.
Принеси мне "Записки Пиквикского клуба" Диккенса из библиотеки, – говорит отец.
Непременно, – говорю я. Но книга, оказывается, на руках. На другой день меня не пускают в палату: обход. Мама уходит в больницу на ночь. С утра поземка скребет по земле, звук двери, открываемой в сенях, разрывает слух скрежетом, вода в ведрах с ночи замерзла, приходится разбивать лед, кусками греть в казанке. Прямо из поземки, тихая, как привидение, возникает мама, нездешняя улыбка блуждает на ее губах; совсем слабым, но таким певучим голосом говорит бабушке:
Момы, Исакалэ из гешторбн…[9]
И в этот миг все во мне заледеневает. Дальнейшее длится, как в ледяном полусне: где-то, на кладбище, никак не могут разбить замерзшую, твердую, как камень, землю, решают разрыть относительно свежую чью-то могилу, которую намеренно копали глубже, чтобы новый гроб поставить на старый; мама ведет меня по каким-то с трудом узнаваемым переулкам; на санях стоит узкий, неожиданно длинный гроб, уже заколоченный, мама садится рядом с возчиком, а я за неимением места – на край гроба, скользим в белом тумане, вокруг в полдень ни души, облегло нас вплотную медленно шевелящееся ледяное пространство, и так как я мертвым отца не видел, я думаю, что вот мы должны куда-то довезти этот деревянный ларь, постараться в дороге не замерзнуть и вернуться, и я тут же побегу в библиотеку, где мне обещали "Записки Пиквикского клуба", ведь папа ждет-не дождется этой книги в больнице.
Из клубящейся стужи возникают два закутанных в сотни лохмотьев силуэта с некими подобьями кирок в руках. Я стою над краем ямы, в глубине которой поблескивает, обледеневая на глазах, крышка нижнего гроба. Опускают, боясь оскользнуться, чертыхаясь на погоду, в бога, мать и крест, хотя вокруг торчат лишь одни палки с дощечками, и это, по сути, последние слова отпевания, замерзающие в воздухе на лету. Гляжу на дощечку с именем отца, датами рождения и смерти (1904 – 27.2.43), выведенными чернильным карандашом и все думаю о книге, которую должен отнести отцу.
И никакого оклика.
Разве голос Ангела может дойти сквозь такую смертную стужу?
8
идиш: "Эта дикая коза".
9
идиш: "Мама, Исак умер…"