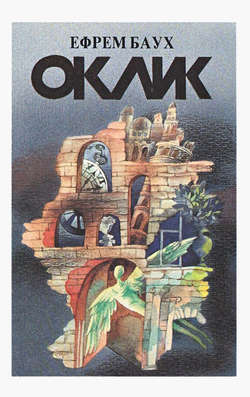Читать книгу Оклик - Эфраим Баух - Страница 8
Оклик
Вступление в книгу
7
ОглавлениеКаждый вечер в том невыносимо долго длящемся июне я пытаюсь переулками к морю спастись от голоса радио. И в надвигающихся сумерках бледно-сиреневым ацетиленом горят фонари на фоне свинцово-серого моря.
Свинцовый свет огромного распахнутого пространства опрокидывается на берег, сталкиваясь с уже прячущейся в углах стен, под аркадами гостиниц, кафе и ресторанов темнотой, особенно ощутимой у ярко фосфоресцирующих разноцветных реклам и вывесок. В эти тревожные вечерние часы, когда всего в каких-то двухстах пятидесяти километрах севернее по берегу, в полном разгаре – война, набережная забита гуляющей публикой, в ресторанах и кафе полно народа, и толпы гуляющих прохватывают сквозняком токи пряной экзотики и уюта, выносящиеся в пространство из ресторанов и кафе вместе с приглушенно-манящим светом красных и голубых лампочек, отсвечивающим рядами бутылок с яркими этикетками, никелем кофейных аппаратов, стеклом буфетных витрин, вместе с острыми запахами молотого турецкого кофе, рома, ананасов и мороженого.
Имена кафе и ресторанов обстреливают меня горстками-залпами букв, манят, окликают, выплескивая на полуторакилометровую набережную города Сирен, протянувшуюся вдоль Средиземного моря, все мыслимые клише, соединяющие в себе корыстную попытку создать некую приманку из моря, ночи, юга, звезд, устойчивые гнезда романтики и уюта, задеть чувствительные струны сердца, предложить каждому клиенту коктейль, в котором в предельных дозах смешаны тяга к тревожно-романтической неопределенности и жажда забвения. В эти беспокойные дни, когда тревога особенно обостряется, сюда бегут искать забвение, бегут, как в дальние страны, иные пояса жизни, сказки детства – в "Корсо", чье название как бы кольцом охватывает все тайны ночной жизни Рима, в отсвечивающее затаенными чудесами погибшей Финикии название "Виа Марис", в охватывающее мистическим веянием с видением колесницы пророка Иезекииля имя – "Меркава", а там уже зовет аравийскими пустынями "Кобра", тысячью и одной ночью – "Алпадин", забытой одесской юностью – "Босфорус" и "Гамбринус", детскими аквариумами – "Морской дворец" и "Посейдон", а еще дальше – испанский "Кальдерон", французский "Сан-Рено", мексиканское "Акапулько", турецкие "Измир" и "Золотой берег", где посверкивают перламутром мандолин и бриллиантином причесок черноусые музыканты. Люди забиваются в уже совсем незаметные, по-домашнему зовущие кафе – "У Фани", "Фитиль" с керосиновыми лампами, в "Древности", в "Немного по-иному".
На телевизионных экранах кафе и ресторанов – только видеофильмы: любовные приключения, бокс и каратэ.
Этакое сверхспасительное равнодушие томительной испариной разлито поверх шаркающей подошвами и шуршащей шинами проносящихся автомобилей набережной.
В старом спортивном костюме и видавших виды кедах, я не привлекаю внимание в толпе, пестро и нарядно одетой, где свои флюиды, водовороты, тайные желания, столкновения и отталкивания, любопытство, скрываемое за равнодушием, притворство выдаваемое за естественность, – все то, что всегда возникает в большом скоплении людей, праздно шатающихся, празднично разодетых, ищущих развлечений. Ощущение потерянности в толпе странно расслабляет и успокаивает, но все мое существо неосознанно тянется за ватагой подростков, мальчиков и девочек, до странности аккуратно и модно одетых, – таким три года назад выглядел мой сын – ватагой, которая гибко изгибаясь, с кошачьей дикостью в глазах, рассекает толпу, вглядываясь пристально вглубь кафе и ресторанов, ватагой, которая полна непритворным презрением к толпе, ко всему роду человеческому, идет как бы вместе, слитно, прорезая слабо сопротивляющийся людской поток излучающим силу течением молодой жизни. И течение это кровно, темно и глубоко связывает их с теми, кто ушел далеко на север, в гибельные лабиринты войны. Они прорезают толпу, как существа иного мира, иной породы, и это ощущают все вокруг. Они не то что бы идут, они словно бы скользят, почти не перебирая ногами, словно бы неподвижны, и несет их сквозь время к самому гибельному для них возрасту единожды раскрываемая мимолетная и дикая сила внутренней легкости, раскованности и красоты, которая внезапно открывается в невероятных событиях, картинах, скульптурах, и, кажется, не толпа зрителей обтекает их, а они сами независимо и навечно рассекают толпу.
В эти тяжкие часы душевного напряжения, когда стараешься затеряться в шуме толпы, как сбежать от собственной судьбы, одна надежда на эту кошачью гибкость молодости, еще таящуюся в душе, выносящую из мусора прошлого лучшие мгновения, пронизанные гибкостью духа, интенсивностью внутренней жизни, переизбытком ее открывшихся связей с окружающей духовностью, тем родом мощного душевного любопытства, заставляющего углубляться и вглядываться в колодцы собственного прошлого, как в окна кафе и ресторанов, за которыми сидят чужие люди, но если пристально вглядеться, то оказывается, что это все те, кто прошел через твою жизнь, и ты среди них, видишь себя в окно, сам себя не узнаешь, но именно это отделенное от тебя твое прошлое "я" в эти напряженные часы испытания как никогда остро, забвенно и печально, дает возможность в полной мере увидеть те мгновения, несшие сквозь годы захлебывающуюся от полноты молодость жизни.
Во всех окнах многоэтажной гостиницы "Марина", замыкающей набережную с юга, горит свет: туристский сезон в разгаре. В гостиничном зале гремит музыка, танцуют: кому-то справляют бар-мицву[1]…
Спускаюсь к самой кромке моря, чтобы идти в обратном направлении, на север, и мгновенно срезанный, как лезвием, береговым обрывом, исчезает, как будто его и не было, весь пестрый и призрачный мир набережной с огнями, шумами, голосами, шарканьем, и я остаюсь один на один с морем, песком, с ровным, как шум примуса, накатом волн, и некуда сбежать от этого пустого и обнаженного пространства, и суровая правда этих минут наваливается всей тяжестью и отчетливостью – всего в двухстах пятидесяти километрах севернее на этой же кромке идет высадка десанта, прорывы и засады, перестрелка, и перед глазами встают описанные сыном в последнюю побывку сцены учебной высадки с моря, когда они швыряли с кораблей резиновые надувные лодки, затем прыгали в них, и как поразил их тридцатилетний комбат Марковский, тут же, в лодке, улегшийся подремать, пока она дойдет до берега.
С трудом одолевая песок, иду вдоль кромки на север, как будто подымаюсь все время в гору, ощущая тяжкий изгиб земного шара к северу, иду ли к сыну, иду ли с сыном, и за спиной всплескивают в ладони, как бывает от горестных мыслей, волны, а море неожиданно и целиком открывается мне враждебным рокотом рукоплесканий, но я не хочу этим образом рукоплещущих в едином порыве рабских толп, столь знакомых мне по прежней жизни, позорить свободную стихию, присаживаюсь на корточки, окунаю ладони в набежавшую волну, идя с морем на мировую.
Самолетик береговой охраны, потрескивающий пропеллером, мигающий огнями, этакая уютно-трескучая летучая лампа, летит вдоль берега на север.
Два параллельно протянувшихся вдоль великих вод мира – призрачно клубящаяся огнями, шумами, толпами набережная и молчаливо и вечно сливающийся с прибоем берег – две чаши весов: на них взвешивается мое существование в этом изматывающем душу июне восемьдесят второго.
И опять переулки возвращают мне, словно эхо, голос диктора…
Засыпаю с выключенным транзистором, прижатым к уху.
Ах, эти отвлечения, отвлечения…
Сны наплывают волнами, взахлеб, накрывая с головой, я пытаюсь выпрыгнуть, и поверхность вод рассекает меня надвое, я существую одновременно в двух стихиях, подобно кентавру, нижняя часть которого, животная, это – трезвость, именуемая самосохранением, а верхняя часть, человеческая, – безумием, и наплывает обвалом духоты и бессилия область печали, темная страна загнанных страхов, на всю жизнь связанная с ночными грузовиками, сдавленным плачем, пухом, летающим при луне, и все это повязано крест-накрест, накрепко, до крови врезающимися в тело словами – "геноцид, депортация, высылка": везут в сороковом, в сорок девятом – в задраенных наглухо вагонах, предназначенных для перевозки скота, насмерть перепуганных мужчин, стариков и старух, мужей, отделенных от жен с детьми, и катятся сквозь гремящий железными суставами мост, через Днестр, составы – в Аид, на восток, в область гибели и печали, канут в Лету, и весь этот мир железного скрежета и страхов выступает во сне какой-то колючей, запутанной и разворошенной полосой растений на болотистой, засасывающей почве, где-то посреди тех твердых земель моей жизни с недолго цветущей сиренью, с цветами, которые, подобно завороженным бабочкам, разбросанно застыли в обвалах летней зелени. После ливня, всколыхнувшего в детской душе страх и восторг, я, почти не мигая, подсматриваю в щель забора за яблоневыми и грушевыми деревьями, за кустами черешен и вишен, и все это сверкает и переливается каплями на фоне дальней арки моста и еще более дальней арки радуги – и в этой неисчезающей свежести я набираюсь сил и спокойствия перед лицом вечности и будущих бед. Весь этот мир, у Днестра, с зеленью, подминающей дряхлые заборы, с запахами сумерек и речной прохлады, с мечтательным молчанием и редкими голосами проходящих в ночи парочек, в семидесятые годы срезанный грейдерами под корень и превращенный в гладкую, как биллиардный стол, залитую асфальтом набережную, – весь этот мир живет во мне прекрасным плавучим островком, грудой деревьев, вырванных с корнем, охапкой зелени, тайны и неистребимости жизни, сорванной потоком времени и плывущей через память, как, бывало, плыли по Днестру сорванные наводнением где-то в верховьях и несомые в открытое море огромные охапки зелени, деревьев, обломки домов, стропила крыш, и нет ничего прочнее и неотвратимей, чем эти островки, легко плывущие через жизнь, несомые разливами бедствия. Вода затапливает низкий левый берег, и вместе с деревьями по колено в воде стоят отец мой, мать, дед и бабка, машут мне, а я уплываю на одном из этих островков, я еще в движении, они удаляются, уменьшаются, окликают, голоса их утоньшаются, становятся прозрачными, отчетливыми: "Ефраим, Ефраим", – и между этими двумя окликами – вся моя жизнь, и в первом – я еще весь погружен в суету нижнего мира…
И я просыпаюсь в холодном поту от этого оклика дважды. Опять бубнит диктор в эти ранние часы кануна субботы.
Утренние часы глухо сглатываются сонно-сосредоточенным бездельем, перекладыванием бумаг, желанием ни о чем не думать, стуком посуды на кухне, где жена готовит обед, стараясь работой заглушить съедающую сердце тревогу, гудением пылесоса и плачем ребенка в соседних квартирах. На верхних этажах слышны голоса, кто-то кого-то окликает, и я вздрагиваю, и мне опять чудится, что слышу свое имя: "Ефраим". И еще раз. На верхних этажах несомненно какое-то движение, какой-то шум, беспокойство, какая-то тревога. Заброшенный в комнатах, я дремлю, я прислушиваюсь…
Тихий стук. Жена открывает дверь. В проеме стоит сын: с почерневшим лицом и весело сверкающими глазами, заросший, с выгоревшими добела волосами, в обмундировании, пропитанном пылью и грязью ливанских земель, с автоматом и каской за плечом. Таким внезапно видим мы его через месяц после начала войны и полного отсутствия связи, в первый приход. А на этажах шум. Мы стоим, онемев, а ошалевшие соседи бросаются на сына, волокут, как в тихой истерии, бутыли с компотом и торты. Это старухи на верхних этажах первые увидели его идущим от автобуса, издалека, это они выкрикивали мое имя…
Авраам и Ицхак тысячелетиями идут в гору. Поколения приходят и поколения уходят, и каждый раз опять видят этих двоих, идущих в гору, замерев, в тревоге, но как бы сквозь призрачную пелену.
Но вот испепеляющее солнце испытания, назначенного судьбой тебе, только тебе, одному тебе, вдруг сжигает эту пелену, вжигает в твою жизнь пуповину, к которой ты шел всей прошедшей жизнью и отныне прикреплен всей оставшейся…
Неразрешимость окутывает ирреальным светом двух, подымающихся в гору, выделяя их как самую сущность жизни, ее непреодолимую загадку…
Боль вечна.
1
Бар-мицва (иврит) – совершеннолетие.