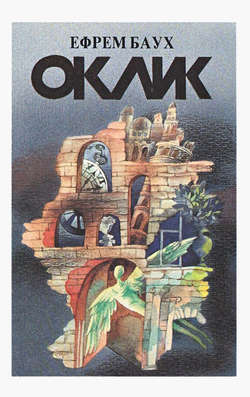Читать книгу Оклик - Эфраим Баух - Страница 4
Оклик
Вступление в книгу
3
ОглавлениеЯ не оговорился вначале: возникает именно ощущение оклика. Словно бы кто-то следит за тобой долго, пристально и печально. И ты вздрагиваешь, ощутив это прикосновение ниоткуда.
Пение небесных сфер слышится изошедшей жаждой душе Лермонтова в несуществующий миг между тем, как пуля пробила сердце, и тем, как стеклянеющий взгляд ловит небо, ястребом падающее с высот…
По небу полуночи Ангел летел
и тихую песню он пел…
Эти слова словно бы ненароком проливаются в замызганном послевоенном классе, вплотную обложенном сосущими душу снегами сорок восьмого года.
А весна обостряет голод, и тянет меня, неясно почему, к плывущим по реке льдинам, к сваям летящего через Днестр моста, и кружится голова от чистоты вечереющего неба и блоковских строк, идущих горлом…
Свирель запела на мосту,
И яблони в цвету,
И Ангел поднял в высоту
Звезду зеленую одну…
У каждого ли времени, у каждой ли души есть Ангел?.. Ангел полуночи? Ангел полудня?
Мой ли Ангел зеленой звезды? И он отмечает меня среди людских толп, суетящихся у приводных ремней Времени. И следит за мной долго, пристально и печально. Быть может, потому я с особой, изматывающей душу остротой ощущаю, как эта масса людей вокруг изображает отсутствие действия, с удовольствием и уверенностью получая за это оплату. Их – подавляющее большинство, и далеко не молчаливое.
Но кто же облечен истинным действием в узкой горловине моей жизни, пробивающейся сквозь время?
И я оглядываюсь назад, на вереницу дней, смыкающихся за моей спиной, как заверчивающиеся воды за кормой корабля, и я вижу существа и предметы, рвущиеся в свет этой узкой горловины моей жизни, которую я пробиваю сквозь более чем пять десятилетий, – лица, лица, знакомые, полузабытые, – их множество, их больше, чем нужно, и все они хотят попасть на сцену, пусть хотя бы в качестве статистов или даже антуража, если нет возможности сыграть роль, – вот через все годы несет, как легкую щепку, столик, на нем раскрытый пожелтевший фолиант Торы, и я, младенец, сижу на этих страницах, придерживаемый рукой деда, быть может, уверенного, что этот сооруженный им необычный ковчег спасет внуку жизнь; вот плывет буфет, изъеденный древоточцами, украшенный резными львами и виноградными лозами, скрепивший своей неподвижностью рождение и смерть многих поколений моей семьи; вот – замок Эльсинор, нарисованный ученической рукой на куске картона, несущем в себе всю историю постановки школьного "Гамлета"; вот – багровое от напряжения лицо одноклассника Феликса Дворникова, свистящего и дующего изо всех сил под одобрение девиц за сценой, прыскающих в ладони: изображает сибирскую вьюгу, погребающую декабристов в спектакле по Некрасову…
Но – главное?.. Что оно, – главное?
Там, где – боль, разрыв, кризис, безнадежность?
И я силюсь, как роженица, силюсь вспомнить, и оно нарождается болью памяти – то, что было самотекущей, сбивающей с ног реальностью, горьким семенем, оплодотворяющим память горечью…
Но как болезненные роды приводят на свет существо, которое становится неотъемлемой частью жизни, так и этот горький опыт, рассечение живого нерва – дает истинный опыт существования. Нелюбимые дети становятся главными свидетелями реальности судьбы.