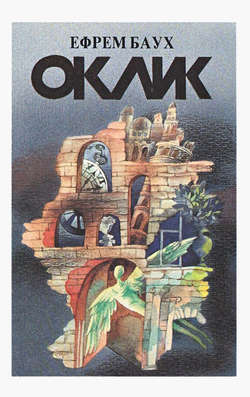Читать книгу Оклик - Эфраим Баух - Страница 17
Оклик
Отступление в лето семьдесят седьмого
2
ОглавлениеШестьдесят восьмой – високосный. Острой косой – в висок…
Начало марта. Снег пожух и почернел в подворотнях. Сижу в редакции газеты, в которой работаю уже более полугода, в своем кабинете, правлю какую-то галиматью. Звонок. Скрипучий плачущий голос отчима валит меня с ног:
– Ты уже больше не увидишь свою маму…
Почти теряю сознание, на ватных ногах иду куда-то, кому-то говорю, мелькают лица, дома, замызганные сугробы, из-под колес автомашин летят брызги грязи, рядом возникает жена, втискиваемся в такси, за стеклами, как в кошмарном сне, мертвые белые поля до самого горизонта, снег в полях еще глубок, не тает, опять эта сотни раз изъезженная дорога на Бендеры, город, полный грязи, снега, ручьев, крика, не к месту бойкий, до безды-ханности сжимающий меня в тиски своей деланно-бодрой суетой.
В доме полно людей, но не слышно голосов, какое-то беззвучное обмирание, тихо, как в бреду, шевелятся чьи-то лица, черные ленты висят-колышутся в кухоньке, блеклая люстра горит среди дня вместо желтого давно сгинувшего абажура; в чашках и кружках, из которых мы пили чай и вино, тяжело стоят цветы, пахнут так душно и пронзительно: с этого мига их запах будет преследовать меня всю жизнь, как и запах карболки и камфары – с детских лет, из больницы, в которой скончался отец; в постели, еще под одеялом, как застала ее смерть, лежит мама; кто-то откидывает одеяло: на лице мамы виноватое выражение: вот, что я натворила, простите меня; в бабушкиной спаленке валюсь на кровать, все во мне склеилось, бабушка странно суетится рядом, то громко заплачет, то успокоится, пытается кормить меня из ложки, совсем перепутала времена, думает, малый внук.
Смещаются времена, вопиют камни, окаменевает человек, черная ночь приходит посреди дня, потому и горят светильники, душа пребывает в пепле.
Крышка гроба стоймя приставлена к буфету, гроб – на столе; мама, вытянувшись, лежит в нем; все вокруг начинают, как по команде, рыдать и так же внезапно прекращают, и в наступившей короткой тишине слышу, как пришедший в себя отчим, негромко обсуждает с кем-то проблемы имущества; опять, как по команде, рыдают, выносят гроб, выходят; рядом со мной стоит Андрей, трясущимися руками держит, как плакат на демонстрации, написанную им табличку, на ней – мамины фамилия, имя, отчество, даты рождения и смерти; наклоняюсь, целую маму в ледяной лоб, и тут прорывает меня, плачу навзрыд, первый раз в жизни, некого уже мне стесняться, наплевать мне на весь мир, который надвигается кладбищем: от ворот до могилы гроб несут на плечах, земля комьями стучит по крышке; присмирев, швыряю вяло ком земли, говорю отчетливо, без запинки – столько лет не повторял – "кадиш", замечая удивление на лицах окружающих: "Итгадал, вэит-кадаш шмэ раба…"
И высоким тонким плачем возносится голос: "Эль малэ рахамим…"
Я не вижу поющего, так и не увижу его, ощущение, что голос падает с неба…
Забрав пару подушек, самое для бабушки необходимое, навсегда увожу ее к себе, где в тихом угаре отсижу семь дней траура. Дом продадут.
Жаль мне только будет позднее, что не взял оставшиеся книги отца, коврик, на котором – тройка с кучером, пассажирами да бубенцами, вышитый для меня мамой и все годы детства провисевший над моей кроваткой, буфет: все это бесследно исчезло с лица земли.
Шестьдесят восьмой продолжается. Май полон цветения и света. Гонит меня по весям нерассасывающаяся боль.
Отлежавшись в тихой берлоге коктебельского дома творчества, бодро купаюсь в море, помогаю жене и сыну искать в прибрежной гальке сердолики, в одиночку подымаюсь на влекущий своей дикостью и мощью Кара-Даг, миную Чертов палец, присаживаюсь над пропастью, гляжу на огромное словно бы выгибающееся в краях пространства угольно-синее море, ощущая, как остро в него погружается гигантский вулканический остов Кара-Дага, такой дьявольски обугленный, и внезапно вся затаившаяся боль со дня смерти мамы заливает меня с головой, и я сижу, оцепенев, и уже знаю, что боли этой никогда не избыть…
В августовской ночи тлеют волчьи цепочки фонарей по краю Котовского шоссе. Недалеко от нашего дома, во дворе дорожного управления, раскинули призывной пункт; всю ночь ходят между домами, выкликают имена, стучат в двери квартир, вручают повестки: в течение получаса собраться и с вещичками на выход; сосед, живущий под нами, потомственный антисемит, хохол Николаенко, который в дни Шестидневной войны ходил серый от хронической язвы и злости, повторяя встречному-поперечному: "Одну нашу дивизию туда, наведут порядок", получает повестку; во дворе призывного пункта от страха нападает на него медвежья болезнь: рвет и поносит; все рвущиеся в туалет, поносят его последними словами, пока офицер, производящий мобилизацию, не вышвыривает его брезгливо вместе с вещичками домой; на утро об этом уже знает весь жилой массив; не отказываю и я себе в удовольствии кинуть ему, почерневшему от переживаний, фразу: "Теперь-то я знаю, кого надо посылать наводить порядок в Израиль", а на душе до того омерзительно: неужели войдут в Прагу? В редакции мы спорим до умопомрачения, каждый раз кто-либо, спохватившись, бросается к телефону, срывает трубку, показывая мимикой, что нас подслушивают, на него машут рукой: э, столько уже наговорили, не поможет. Утром иду за молоком и хлебом в магазин, какая-то женщина, извлекая из сумки пустые кефирные бутылки, говорит мельком: "Вошли, с ночи.."
Что еще выдаст шестьдесят восьмой?
Совсем спятили, что ли: взбесили их румыны, Чаушеску, который потеряв самообладание, призвал с балкона весь народ к вооружению; поезда в Унгены, через границу приходят пустые, с выбитыми окнами, загаженными купе; наши выставили войска, танки, артиллерию вдоль Прута, вот и друга моего Игната прихватили, меня пока обошли. Что еще будет?
Боль затаилась, грызет изнутри. Октябрь приходит простудой. Обычное дело, глотаю таблетки. Но болезнь как-то затягивается, вяло тлеет, хрипы не проходят. Жизнь насквозь пронизана сюрреализмом: союз писателей прикреплен к лечебнице комитета госбезопасности, литераторы смешиваются с сексотами в очереди к врачу (впервые в жизни вижу в кабинете говорливой Агнессы Францевны стопку лечебных карточек с надписями "сексот", спрашиваю, что это. Охотно разъясняет, ибо ей вообще нравится подолгу беседовать с писателями: "Сокращенно: секретный сотрудник". Кто бы мог подумать. Уверен был: собачья кличка). Врач настаивает на госпитализации: острый бронхит, может перейти в хронический. Что ж, такой год, как шестьдесят восьмой, достойно завершить в больничной палате, в которой кроме меня еще четверо: справа, страдающий тяжелейшим воспалением легких, существует на капельницах; слева, Лукъянчук, у которого, явно рак легких, двое остальных все время меняются, не успеваю запомнить. В общем, веселая компания. Ведут меня в ординаторскую – вводить кальций в вену. Бодро улыбаюсь, в последний миг вижу стеклянный шкаф с инструментами, затем в абсолютном мраке пролетает белый Ангел, огненные кони; прихожу в себя, лежа на полу, угол шкафа разбит, к счастью, даже не оцарапался, медсестры мечутся в испуге. Вероятно, мне дают сильнодействующие лекарства: ночью сердце схватывает острая боль, забыв, что сестру можно вызвать нажатием кнопки, пытаюсь добраться до дверей, опять теряю сознание; прихожу в себя в свете ламп, с кислородной маской на лице, словно бы вдыхая воздух рая, умиротворенно смотрю на белое привидение, светловолосую медсестру, думаю: "Что со мной будет?"
На другой день приходит в палату исхудавший мужчина, по профессии тюремщик, капитан Тумаев, у него, кажется, последняя стадия белокровия; к ночи просит у меня немного кефира, тихо благодарит; среди ночи захлебывается, бегут за врачом, в палату заваливается вся реанимационная команда, а мы лежим тут же, и никуда нас не переводят, до утра шипит аппарат искусственного дыхания, бегают врачи, все впустую; к утру выкатывают аппараты, выносят тело…
На всю жизнь запомнится мне эта неделя больницы, целый год после этого не смогу прийти в себя.
Дни бегут, с утра мы с женой идем на работу, отводя сына в сад. В магазинах продается моя третья поэтическая книга с поэмой "Моисей", а дома я храню экземпляр с печатью цензора "Разрешено в свет" наискось через слова пророка Исайи, взятые эпиграфом к поэме: "…Кричат мне… сторож! сколько ночи! сторож! сколько ночи! Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь…"
Дома, как птица в клетке, которая уже не может передвигаться на слабых своих ногах, летает от окна к окну, ожидая нашего возвращения, бабушка. Она смотрит телевизор, поет ангельские свои песенки, в свои девяносто три года без очков вдевает нитку в иголку и просит меня, чтоб я об этом никому не рассказывал, а однажды задает вопрос, вошедший в мифические анналы нашей семьи: "Ду вэст нит лахн фун мир, нейн? Зуг мир: мир зэйен зей; зей зэйен унз?"[12] Однажды она, зацепившись за ковер, падает, ломает шейку бедра. Везу ее на "скорой", потом посещаю в больнице, тревога гложет меня, и бабушка, которой один глупый врач с непререкаемым самодовольством специалиста велел поставить гипс (от него позже начнется гангрена, сведшая ее в могилу) утешает меня: "Нэм зих ныт азой цу дэм арцн"[13] Это главный принцип ее жизни. Только для меня у нее была припасена другая сентенция: "Золст манэ бейнер ыберлейбн"[14].
Похоронили ее на еврейском кладбище, на кишиневской Скулянке. И однажды, неожиданно, прервав работу, пойду пешком, через Ботанический сад, через старое кладбище с мавританской развалившейся часовенкой, в которой в давние времена, как и подобает, обмывали и отпевали умерших, зашив их по древнему обычаю, в тахрихим[15], доберусь до бабушкиной могилы, над которой уже стоит памятник, и долго буду сидеть, сливаясь памятью с ее высокой и чистой душой, я, переживший ее кости…
А в семидесятом у нас рождается дочь, которой на этих днях исполнилось семь лет, и она смотрит в окно вагона на быстро сгущающиеся сумерки, на огни станции Фастов, проплывающие мимо нас.
12
идиш: "Ты не будешь надо мной смеяться? Скажи мне: мы их видим (в телевизоре), они видят нас?"
13
"Не принимай так близко к сердцу".
14
"чтоб ты пережил мои кости".
15
иврит: саван.