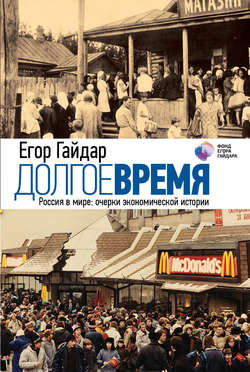Читать книгу Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории - Егор Гайдар - Страница 10
Раздел I
Современный экономический рост
Глава 2
Экономический детерминизм и опыт XX века[58]
§ 1. Исторические условия возникновения марксизма
ОглавлениеДля понимания сути и места марксизма в интеллектуальном развитии человечества, его возможности влиять на современный общественный анализ необходимо принять во внимание особенности эпохи, в которой формировались основы этой доктрины.
В XVIII–XIX вв. Англия, а затем и Западная Европа в целом вступают в эпоху быстрых и очевидных изменений в экономике и обществе. Идет перераспределение рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность, людей – из деревни в город. Возникают производства, в массовых масштабах использующие машины. Появляются новые средства транспорта: железные дороги, суда с паровыми двигателями. Рушатся социальные институты и социальная иерархия, характерные для аграрного общества, возникают новые проблемы, порожденные урбанизацией, динамикой экономической конъюнктуры. Сохранять старую, традиционную, статичную картину мира становится невозможным: она со всей очевидностью противоречит новым реалиям. Отсюда растущий спрос на концепции, способные объяснить происходящие перемены, их причины, внутреннюю логику, заложенные в них тенденции, потребность в теории, формулирующей законы развития современного общества.
Маркс был не первым, кто попытался ответить на этот вызов времени. О закономерностях исторического развития и исторических перемен пишут французские историки периода Реставрации, К. Сен-Симон и его ученики, П. Прудон, О. Конт, Г. Бокль, последователи германской исторической школы.
До конца XVIII в. бедность была в первую очередь уделом деревни. В городах было немало бедных, но доля городского населения к этому времени еще была невелика (табл. 2.1).
Таблица 2.1. Доля малоимущих в общей численности населения для отдельных европейских городов, XV–XVII вв.
Источник: Cipolla Carlo Maria. Before the Industrial Revolution. Methuen, 1981. P. 15.
Веками малоземелье, неурожаи, вспышки голода удерживали темпы роста населения на низком уровне. Когда бедность сконцентрирована в деревне, для элиты, в том числе интеллектуальной, она малозаметна. С началом современного экономического роста, ускорением прироста населения, сокращением сельской занятости, урбанизацией бедность перемещается в города. Городские бедняки – это те, кто обречен на голодную смерть. Бедность становится зримой, и это происходит на фоне технических инноваций, беспрецедентного роста производственных возможностей.
В деревне бедняк может обратиться за помощью к членам большой семьи или соседям. Она не гарантирована, но отказ предоставить ее противоречит традициям. С переездом в город большая семья распадается, а нормы соседской взаимопомощи не действуют. Традиционные механизмы социальной солидарности разрушены, а новые еще не созданы. К тому же продолжительность трудового времени в течение года в ходе промышленной революции увеличивается с 2,5 тыс. до 3 тыс. ч[61].
Урбанизация порождает новые причины бедности. При натуральном крестьянском хозяйстве, ограниченности рынков риски, связанные с колебаниями экономической конъюнктуры, были невелики. Главными угрозами оставались неурожаи, войны и эпидемии. Теперь же доступность продовольствия – это первая забота города. Роль рынков в экономике растет, и колебания конъюнктуры приводят к неожиданным массовым увольнениям, что лишает городскую бедноту последних средств к существованию. Механизмов регулирования социальных последствий безработицы еще нет. Свидетельство социальной дестабилизации раннего индустриального периода – рост преступности по сравнению с уровнями, характерными для традиционного аграрного общества. Лишь на следующих этапах индустриализации, примерно через два поколения после ее начала, уровень преступности начинает снижаться[62].
Давно идет дискуссия о том, как менялся уровень жизни английских низших классов в первой половине XIX в. Из-за недостатка надежных данных она, вероятно, никогда не завершится. Однако у современников не вызывал сомнения тот факт, что по мере индустриализации реальная заработная плата занятых в промышленности падала, а нищета среди рабочих росла[63].
Вообще же тогда считалось, что бедность низших классов полезна, а в повышении их благосостояния таится опасность для общества[64]. С последней четверти XVIII в., со времени публикации книги “О природе и причинах богатства народов” А. Смита, заработную плату рассматривали исключительно как средство поддержания жизни рабочих и воспроизводства низших классов. Через несколько лет после выхода этой работы ее уже часто цитируют в английском парламенте. Еще через несколько лет изложенные в ней представления становятся основной аргументацией в спорах на экономические темы. Естественность законов, которые определяют уровень заработной платы и невозможность его повышения, – один из ключевых тезисов Д. Рикардо.
Т. Мальтус понимал социально-политическую уязвимость представления о том, что повысить уровень жизни основной массы населения при существующем общественном устройстве невозможно. Он попытался вывести это положение не из организации общества, а из природных закономерностей: постоянный рост народонаселения – объективная реальность, она-то и не позволяет улучшать жизнь низших классов[65]. В 1798 году он пишет, что тенденции к улучшению условий жизни работающих бедных не существует и не может существовать[66]. Несколько десятилетий спустя Дж. Маккулох утверждает: “…Фабричная система неблагоприятно влияет на положение большинства занятых в ней”[67].
А вот мнение другого автора – Дж. Хикса: “Сакраментальный вопрос английской истории: почему период, потребовавшийся для повышения реальной заработной платы, оказался столь протяженным, несмотря на ее колебания между 1780 и 1840 годами? Как бы то ни было, резкое отставание динамики заработной платы от экономического развития в это время очевидно”[68].
Представления исследователей, которые доказывали ошибочность господствовавших взглядов об ухудшении положения рабочего класса на начальных стадиях индустриализации в Англии, объединены в работе “Капитализм и историки” под редакцией Ф. Хайека[69]. Но и ее авторы согласны с тем, что в 30–40‑е годы XIX в. мнение об углубляющейся нищете рабочих было широко распространено. И эти представления бытовали в то время, когда происходили серьезнейшие социальные перемены и беспрецедентное расширение экономических возможностей[70]. В такой обстановке концепция, связывающая логику экономического развития, неотвратимость коренного изменения общественного устройства и сдвигов к улучшению жизни низших классов, просто не могла не появиться.
В 40‑е годы XIX в. К. Маркс оказался свидетелем бурных изменений в производительных силах и связанных с ними перемен в организации общественной жизни. Они носят масштабный, системный характер, протекают на фоне растущих производственных возможностей и бедственного положения основной части населения. А экономическая теория твердит: жизнь рабочих лучше не будет, это невозможно, иного способа производства, кроме капитализма, придумать нельзя.
К середине XIX в. ведущая роль промышленности стала для всех очевидной. Новые реалии обусловили два центральных вывода К. Маркса. Развитие промышленности – атрибут социально-экономического прогресса. На авансцену истории выходит промышленный пролетариат. Он становится ведущей социальной силой в общественном развитии. Обнищание трудящихся как следствие развития капитализма представлялось одной из важнейших особенностей Нового времени.
Этот тезис – один из наиболее противоречивых в теории К. Маркса, но в то же время он и один из важнейших в марксистской идеологии. Ухудшение положения трудящихся считалось очевидным фактом на протяжении первой половины жизни К. Маркса, примерно до 1860‑х годов. Именно в этот период закладывались основы и разрабатывалось мировоззрение создателей нового учения. Вдумчивый исследователь не мог обойти данную проблему. Об обнищании трудящихся писали решительно все: публицисты, правительственные чиновники, ближайший друг и соавтор К. Маркса – Ф. Энгельс[71]. Обнищание вписывалось в гегелевскую диалектику при описании логики исторического прогресса (точнее, естественным образом следовало из этой логики) – трудящиеся через обнищание (отрицание собственности) приходят к новому положению, становясь господами своей жизни и даже истории (отрицание отрицания).
Какой вывод из этого сделает исследователь, готовый допустить возможность других способов производства? Он естественен: капитализм, развиваясь, обостряет до предела внутренние противоречия между богатеющими и нищающими и создает технологические возможности, позволяющие организовать производство и общество иначе. Будучи продуктом общественной эволюции, капитализм не вечен.
Этот вывод накладывается на гегелевскую диалектику, которая видит экономику и общество развивающимися системами, подкрепляется примером других стран, менее развитых, где тоже происходят подобные перемены. Сомнений быть не может: Англия показывает своим последователям картину их будущего[72].
61
Tranter N. The Labour Supply 1780–1860 // McCloskey D. (ed.). The Economic History of England Since 1700. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. P. 220, 221; Crafts N. F. R. British Economic Growth, 1700–1850; Some Difficulties of Interpretation // Explorations in Economic History. Vol. 24 (3). 1987. P. 245–268. По этому вопросу продолжается дискуссия. Некоторые авторы считают, что Крафтс и те, кто разделяет его мнение, опираются лишь на данные, характеризующие продолжительность рабочего года в текстильной и металлургической промышленности. С учетом традиционных отраслей увеличение продолжительности рабочего года во время промышленной революции было не столь резким (см.: Williamson J. G. Debating the Industrial Revolution // Explorations in Economic History. Vol. 24 (3). 1987. P. 280).
62
О динамике преступности в Англии, Франции и Германии на ранних стадиях современного экономического роста см.: Emsley C. Crime and Society in England 1750–1900. Chapter 2. London; New York: Longman, 1987; Zehr H. The Modernization and Crime in Germany and France, 1830–1913 // Journal of Social History. Vol. 8 (4). 1975. P. 117–141.
63
Данные о среднем росте поступающих на военную службу в Англии, рекрутируемых, как правило, из низкостатусных групп населения, дают основание полагать, что представления об увеличении распространения бедности в начале XIX в. не были беспочвенными (см.: Riley J. C. Rising Life Expectancy. A Global History. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 141).
64
Как говорил кардинал Ришелье: “Все политики согласны, что ежели народ будет в достатке, то невозможно будет содержать его в границах его обязанностей. Они основываются на том, что, имея меньше знаний, чем другие сословия государства, несравненно лучше воспитанные и более образованные, народ едва ли оставался бы верен порядку… если бы он не был до некоторой степени сдерживаемый нуждою” (см.: Андреев А. Р. Гений Франции, или Жизнь кардинала Ришелье. Документальное историческое исследование. Политическое завещание А. П. Ришелье. М.: Белый Волк, 1999. С. 157).
65
Как справедливо отмечал Э. Ле Рой Ладури, Мальтус был рациональным теоретиком традиционных обществ, но он был пророком прошлого; он слишком поздно родился для быстро изменяющегося мира (см.: col1_1 The Peasants of Languedoc. Urbana; Chicago; London: University of Illinois Press, 1976. Р. 311).
66
“Главная и постоянная причина бедности мало или вовсе не зависит от образа правления или от неравномерного распределения имущества; не во власти богатых доставить бедным работу и пропитание, поэтому бедные, по самой сущности вещей, не имеют права требовать от них того и другого. Эти важные истины вытекают из закона народонаселения, который при ясном изложении доступен самому слабому пониманию. Поэтому, раз убедившись в них, низшие классы выказывали бы больше терпения в перенесении тягостного положения, в котором они могут оказаться. Нужда не вызывала бы в них такого негодования против правительства и богатых людей; они не выражали бы постоянной готовности к неповиновению и мятежу, а, получая вспомоществование от общественного учреждения или частного лица, чувствовали бы больше признательности и лучше ценили бы его” (см.: Мальтус Т. Опыт закона о народонаселении. Петрозаводск: Петроком, 1993. С. 110).
67
McCulloch J. R. Treatises and Essay on Money, Exchange, Interest, the Letting of Land, Absenteeism, the History of Commerce, Manufactures, etc. Edinburgh, 1859. P. 454, 455.
68
Hicks J. A Theory of Economic History. London; Oxford; New York: Oxford University Press, 1969. P. 148, 149.
69
Hayek F. A. (ed.) Capitalism and the Historians. Chicago: The University of Chicago Press, 1954. P. 14.
70
В это время Алексис де Токвиль описывает социальный климат во Франции как войну всех против всех. “Я видел общество, разделенное на два лагеря. Те, кто не имеет ничего, объединены в алчности. Те, кто что-то имеет, объединены страхом. Никаких связей не существует между этими двумя классами. Везде господствует идея неизбежной и приближающейся схватки” (см.: Tocqueville A. de. Democracy in America. Vol. I. New York: Alfred A. Knopf, 1945). Как справедливо отмечает С. Хантингтон, “модернизация всегда вызывает кризис традиционной политической системы, но отнюдь не всегда обеспечивает создание современной политической системы. Если развитость приносит стабильность, то развитие (модернизация) приносит нестабильность” (см.: Huntington S. P. Political Order in Changing Societies. New Haven; London: Yale University Press, 1968. P. 40, 41).
71
Энгельс стал заниматься экономическими проблемами раньше Маркса, именно он пробудил у К. Маркса интерес к ним. Работу “Положение рабочего класса в Англии”, написанную Энгельсом в 1844–1845 годах, К. Маркс назвал гениальной (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. М.: Госполитиздат, 1959. Т. 13. С. 8).
72
О влиянии специфических условий первой половины XIX в. на формирование взглядов К. Маркса см.: Field A. J. The Future of Economic History. Boston; Pordrecht; Lancaster: Kluver, Nijhoff Publishing, 1987. P. 301, а также: R o s t o w W. W. The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press, 1960. P. 157.