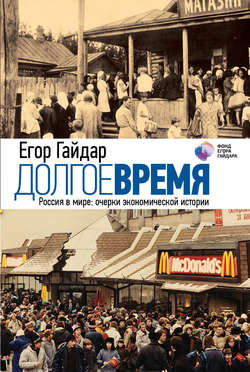Читать книгу Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории - Егор Гайдар - Страница 20
Раздел I
Современный экономический рост
Глава 3
Общее и особенное в современном экономическом росте
§ 4. Влияние традиций
ОглавлениеМногие фундаментальные черты аграрного общества присущи разным цивилизациям. Как бы ни отличались национальные культуры, но структура занятости, расселения, демографическое поведение, уровень жизни большинства населения – все эти показатели сходны и в Средиземноморье времен Римской империи, и в Китае времен династии Мин[204], и в Индии накануне британского завоевания. Но институты аграрных обществ, определяющие их организацию, семейное поведение, устройство власти, во многом специфичны[205].
Важнейший фактор цивилизационной идентичности, влияния институтов традиционного общества на траекторию национального развития – религиозные традиции. С началом современного экономического роста, урбанизацией, широким распространением образования, как правило, связано снижение распространенности религиозных чувств в обществе[206]. Но этот процесс не носит линейного характера. Его ход зависит от специфики цивилизационных и национальных традиций.
В XVIII в. Д. Юм близко подошел к тому, чтобы сформулировать тезис о связи протестантской этики с подъемом стран Северо-Западной Европы[207]. М. Вебер отмечает: то, что в европейских странах среди протестантов больше богатых, чем среди католиков, общеизвестно и общепризнано. В Бадене, Баварии, Венгрии высшее образование не только более широко распространено среди протестантов; у них оно и в большей степени ориентировано на подготовку к техническим, промышленным, коммерческим профессиям[208].
В конце XX – начале XXI в., когда в течение десятилетий можно было наблюдать быстрый экономический рост стран с конфуцианской системой ценностей[209], а одной из самых динамичных стран Западной Европы стала католическая Ирландия, представления М. Вебера, который связывал подъем Европы, создание предпосылок для европейского капитализма с протестантской этикой, кажутся архаичными[210]. Но база распространения идей о роли религии в создании предпосылок начала современного экономического роста была реальной. Первыми в стадию современного экономического роста вступили именно протестантские страны Северной Европы и протестантские же регионы Нового мира. Лишь позже к этому процессу присоединились районы католической и православной Европы. Р. Инглхарт доказывает, что результаты сравнительного анализа динамики развития протестантских и католических стран за 1870–1938 годы подтверждают выводы М. Вебера. Последовавший за этим расцвет католических стран он объясняет изменениями в их культуре[211].
Исследования приоритетов родителей в вопросе о том, что должно быть главным в обучении детей, проведенные Г. Ленским и Д. Алвином в США, показывают сохранение существенных различий в ценностных системах, большую ориентацию протестантов на то, что связано с жизненным успехом. Но эти же исследования демонстрируют и постепенное сближение образовательных приоритетов различных религиозных групп[212].
В ряде отношений влияние протестантской этики на специфику национальных траекторий развития в Северной Европе очевидно. Речь идет о необычно раннем и широком распространении грамотности, причем среди обоих полов. Объясняется этот феномен массовым изучением Библии. Достойные протестанты должны были читать Священное Писание сами. Католическая церковь самостоятельное чтение не поощряла[213]. Лишь с течением времени первоначальный разрыв в уровне грамотности между протестантской и католической Европой был ликвидирован благодаря всеобщему начальному образованию. И чем, как не влиянием протестантизма, объяснить существенное сокращение числа праздников, увеличение числа рабочих дней в году? Ведь в католической Европе XVI в. праздники занимали четверть, если не треть, календаря.
Исследователи отмечают еще один параметр, по которому протестантизм оказывает влияние на долгосрочные тенденции эволюции социальных институтов, – это уровень государственной нагрузки на экономику. Есть протестантские страны с крайне высокой долей государственных расходов в ВВП. Но все страны – лидеры экономического роста, где доля государственных расходов в ВВП существенно ниже средней, характерной для стран ОЭСР, принадлежат к протестантской или, по крайней мере, некатолической традиции (США, Австралия, Канада, Швейцария)[214].
Специфика установлений, доставшихся в наследство от аграрных цивилизаций, оказывается устойчивой. Под влиянием перемен в организации общественной жизни она модифицируется, но не исчезает[215].
Историки спорят о том, сколько цивилизаций, имеющих существенные различия в системах институциональных и культурных традиций, унаследованных от аграрного общества, можно вычленить сегодня. Окончательного ответа на этот вопрос быть не может. Само понятие “цивилизация” слишком широко и неопределенно, чтобы можно было использовать жесткие дефиниции. Тем не менее чаще всего в последние годы специалисты говорят о китайской цивилизации (иногда объединяя, а иногда отделяя ее от японской), об индуистской, исламской, православной, западной, латиноамериканской и африканской цивилизациях. По вопросу о выделении двух последних идет оживленная дискуссия[216].
При анализе специфики цивилизационных установлений важно не допустить грубой, но распространенной ошибки: не спутать уровень социально-экономического развития страны с национальной спецификой.
К. Тацит пишет о германцах: “Когда они не ведут войн, то много охотятся, а еще больше проводят время в полнейшей праздности, предаваясь сну и чревоугодию, и самые храбрые и воинственные из них, не неся никаких обязанностей, препоручают заботы о жилище, домашнем хозяйстве и пашне женщинам, старикам и наиболее слабосильным из домочадцев… Строят же они, не употребляя ни камня, ни черепицы; все, что им нужно, они сооружают из дерева, почти не отделывая его и не заботясь о внешнем виде строения и о том, чтобы на него приятно было смотреть”[217].
Автор представлял более развитую страну и потому отнес признаки низкого уровня развития к национальным особенностям. Однако и после выравнивания уровней развития европейская семья по-прежнему существенно отличается от той, которая характерна для мусульманской цивилизации, а нормы сбережений в странах с конфуцианской традицией обычно выше, чем в той же Европе или Америке.
Выдержав испытание столетиями, национальные различия остаются устойчивыми и сегодня. Так, характерные черты конфуцианской этики – акцент на иерархические отношения, прагматизм, высокая ценность образования, трудолюбие, долгосрочный подход к возникающим проблемам – рассматриваются сегодня как база успехов стран этой традиции в адаптации к условиям современного экономического роста[218].
Индийская кастовая система – пример института, который вырос из традиционного аграрного общества, продемонстрировал свою живучесть в современном мире и продолжает заметно влиять на ход модернизации в Индии[219].
Межкультурные исследования подтверждают, что общества с единым происхождением (что проявляется в первую очередь в принадлежности к единой языковой семье) обладают сходными специфическими чертами в укладе и во взглядах на мир[220].
Европейские институты и установления со времен античности обладают чертами, которые отличают их от организации жизни в других аграрных цивилизациях, условно называемых восточными. Способ организации экономики и общества, получивший название “капитализм” и создавший предпосылки для современного экономического роста, сформировался в неразрывной связи с западными институтами.
Важнейшие черты западных, европейских общественно-политических структур – ограничение полномочий власти принятыми, закрепленными обычаями и правилами, разграничение власти и собственности, гарантии собственности и личных свобод. Этот набор установлений неестественен для неевропейских аграрных цивилизаций, где доминируют представления о безграничной компетенции власти, где власть и собственность тесно переплетены и потому трудноотделимы друг от друга[221]. Между тем, как справедливо отмечал Д. Родрик, институты приходится создавать, опираясь на имеющийся реальный опыт, местные знания и неизбежные эксперименты[222].
Начало современного экономического роста в Европе, вызовы догоняющего развития ставят перед элитами неевропейских стран сложную задачу: имитировать институты, у которых в неевропейских странах не было исторической традиции, формировавшейся в Европе на протяжении более двух тысячелетий. В этом сущность характерных для большинства стран догоняющей индустриализации проблем: слабости отечественного предпринимательского класса, недостаточных гарантий собственности, отсутствия стимулов к долгосрочным вложениям, коррупции в государственном аппарате, стремления перераспределять административную ренту. Все это способно на десятилетия парализовать экономическое развитие.
К числу важных и устойчивых традиционных черт, которые влияют на эволюцию современных обществ, относятся нормы семейного поведения. В Западной Европе рано, еще в первой половине 2‑го тысячелетия, укоренилась традиция малой семьи, в которой регулировалось число рождений на одну женщину[223]. Специфика европейской нуклеарной семьи, сформировавшейся еще до начала современного экономического роста, ее отличие от широкой семьи, характерной для других регионов мира, давно привлекала внимание исследователей. Многие авторы давно связали ее с материальными интересами Католической церкви[224].
Некоторые элементы подобной эволюции семейных отношений прослеживаются и в Японии эпохи Токугава. Здесь с началом современного экономического роста на протяжении 2–3 поколений происходит переход к нуклеарной семье, состоящей либо только из супругов, либо из родителей и детей[225]. Для большинства других аграрных цивилизаций характерна широкая семья, охватывающая большой круг близких и дальних родственников[226], с установками на семейную взаимопомощь и отсутствием ограничения рождаемости. Столь противоположные традиции и приводят к различиям демографического перехода в европейских и неевропейских странах. В последних рождаемость в начале современного экономического роста выше, чем в Европе, период ее снижения более продолжителен, численность населения возрастает быстрее. Эти факторы, как и упомянутая выше тенденция к более быстрому снижению смертности на ранних этапах современного экономического роста, характерная для стран догоняющего развития, определяют высокие темпы прироста численности их населения (см. табл. 1.4) и долгосрочные перспективы структуры мирового населения. В XX в. доля Европы в мировом населении сокращалась и, по прогнозам, будет сокращаться в текущем столетии (табл. 3.11).
Характерное для многих неевропейских цивилизаций, хотя и находящихся на высоком уровне социально-экономического развития, сохранение широкой семьи приводит к важным последствиям. Л. Харрисон обращает внимание на связь традиций широкой семьи с тем, что большинство предприятий в Корее и на Тайване находятся в семейной собственности. В то время как на Западе отсутствие взаимопомощи в рамках широкой семьи подталкивает к формированию системы социальной поддержки, которая финансируется из налоговых источников, в неевропейских странах социальную функцию на протяжении столетий несет поддержка родственников, в том числе и не самых близких. Потребность в помощи, организуемой и финансируемой государством, возникает позднее[227]. Эти традиции оказывают влияние и на динамику нормы сбережений[228].
Таблица 3.11. Доля Европы, Китая и Индии в мировом населении, %[229]
Источник: 1 Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. P.: OECD. 2001. С. 243. 2 World Population Prospects. UNPD, 2003. http://esa.un.org/unpp.
Еще одно направление, на котором традиция широкой семьи определяет специфику институциональной эволюции во многих неевропейских странах, – ее роль в экономической и общественной жизни. Западные эталоны политической и предпринимательской деятельности ориентированы на прозрачность, универсальность и обезличенность отношений. На практике личные и родственные связи играют роль в принятии деловых и кадровых решений, но, как правило, ограничены узким кругом ближайших родственников (дети, родители, братья, сестры) в малодетной семье. Само использование родственных связей – при поступлении на работу, выборе партнера по сделке – принято считать предосудительным, противоречащим этическим стандартам. Во многих неевропейских странах ситуация принципиально иная: здесь взаимопомощь в рамках широкой семьи опирается на историческую традицию, а отказ от семейной поддержки, нежелание поддержать родственника причисляются к нарушениям этики[230]. В коррумпированном государстве, не способном защитить собственность и обеспечить выполнение контрактов, связи, основанные на родстве и взаимопомощи в рамках широкой семьи, становятся инструментом, который делает экономическую деятельность возможной и результативной[231]. У многих воспитанных в западной традиции наблюдателей такая система отношений, получившая название “crony capitalism”, вызывает искреннее недоумение[232].
Существуют и специфические факторы адаптации к современному экономическому росту, которые присущи отдельным цивилизациям и поныне определяют развитие многих государств. Очевидный пример – специфика ислама, одной из ведущих мировых религий, возникшей в рамках аграрной цивилизации. Ислам в большей степени, чем любая другая мировая религия, совмещает веру и право, санкционирует и детально регламентирует нормы семейных, общественных и экономических отношений. Из мировых религий ислам в наибольшей степени связан с кочевыми установлениями, в том числе с широким распространением дальней караванной торговли. Ислам – это расписание социального порядка[233]. Он включает набор правил – комплексный, определенный Богом, регулирующий правильную организацию общества. Эта модель существует в письменном виде; она доступна всем грамотным людям и всем тем, кто готов слушать образованных людей.
Некоторые исследователи истории ислама связывают проникновение религиозных норм в регулирование гражданской, экономической и политической жизни с быстрым политическим успехом ислама, отсутствием необходимости длительного существования в условиях наличия власти, не разделяющей религиозные убеждения сторонников учения. У раннего христианства в отличие от ислама не было возможности уйти от тезиса “Богу – Богово, кесарю – кесарево”[234].
Ислам твердо ориентирован на законопослушание. Роль Корана и законов шариата в исламских обществах обусловливает более жесткую, чем в других крупных цивилизациях, регламентацию человеческого поведения[235]. Это мировая религия, в наибольшей степени обращенная к житейским проблемам, как индивидуальным, так и социальным[236]. В этом и источник многих проблем, с которыми сталкиваются мусульманские страны в попытках адаптироваться к меняющимся условиям современного экономического роста. Жесткая конструкция норм, соответствующих реалиям общества кочевников-торговцев Ближнего Востока середины 1‑го тысячелетия н. э., не вписывается в реалии меняющегося мира. Отсутствие высшего авторитета организованной церкви делает особенно сложной адаптацию шариатского законодательства к новым условиям. Книгопечатание получает широкое распространение в мусульманском мире (который давно знал о его существовании в Китае и Европе) лишь в XVIII в. Для его внедрения потребовалось особое постановление богословских авторитетов о том, что книгопечатание не противоречит исламским нормам[237]. Действовавший в течение длительного времени в мусульманских странах запрет на использование печатного станка, рассматривавшийся как средство борьбы с ересями, сдержал распространение знаний и создание предпосылок к современному экономическому росту[238]. До настоящего времени объем переводной литературы на арабский язык остается аномально низким по сравнению со странами аналогичного уровня развития[239].
Еще одна проблема адаптации к реальностям современного мира, характерная уже не для всех исламских стран, а только для арабских стран, – необычно глубокое расхождение письменного и разговорного языка. Это разные языки[240].
Законы шариата не содержат идущей от римского права концепции юридического лица. Это осложняет формирование в исламских странах современных корпоративных институтов, лежащих в основе западного капитализма. Мир современного экономического роста динамичен, он радикально отличается от аграрных цивилизаций прошлого и требует от стран, пытающихся адаптироваться к его условиям, институциональной гибкости, способности быстро и радикально менять господствующие установления. В исламских государствах это приводит к постоянно возникающим противоречиям между религиозными догмами и потребностями экономического развития.
Характерная для аграрных цивилизаций неприязнь к ростовщичеству естественна, она основана на социально-экономических реалиях аграрного мира. Но в исламе она доведена до крайности – до прямого запрета кредитовать под проценты. Это мало совместимо с функционированием рынка капитала – важнейшим инструментом развития в условиях современного экономического роста. Исламские страны ищут и находят способы обойти религиозный запрет. Но для этого им приходится создавать необычные и не всегда эффективные финансовые механизмы[241].
Важнейший аспект общественной жизни, где установления ислама модифицируют траекторию развития в условиях современного экономического роста, – положение женщины. Коран твердо закрепляет господствующее положение мужчины в семье, обычай многоженства[242]. Все это адекватно реалиям патриархального общества кочевников-торговцев, но трудно сочетать с жизнью в обществе, вступившем в процесс современного экономического роста. В Саудовской Аравии женщина не имеет права водить машину, управлять катером или самолетом, путешествовать без разрешения мужчины, под контролем которого она находится. До 1964 года девочки в Саудовской Аравии не могли посещать школу. Традиция, по которой женщине предписано играть исключительно семейную роль, а ее участие в производстве и общественной жизни ограничено, приводит к тому, что женское образование распространяется медленно. Даже в период экономического роста занятость женщин остается низкой, а число рождений на одну женщину снижается черепашьими темпами (табл. 3.12, 3.13). Сохранение в арабо-мусульманском мире едва ли не самых высоких среднегодовых темпов роста численности населения (в 1980–2001 годах – 2,4 %, в том числе в арабских странах – 2,5–2,6 %) вызвало рекордный рост доли арабских и мусульманских стран в мировом населении – с 12,5 % в 1913 году до 19,6 % в 2001 году[243].
Таблица 3.12. Доля неграмотных женщин старше 15 лет в общей численности этой группы населения в странах, где численность мусульманского населения превышает 10 %, %
Источник: World Development Indicators 2003. The World Bank.
Таблица 3.13. Годовые темпы роста населения и коэффициент фертильности[244] в некоторых исламских странах, 1950–2000 годы, %
Источник: The Arab Human Development Report 2002. New York: UNDP, 2002.
Многие авторы обращали внимание на более высокую рождаемость в мусульманских семьях Индии по сравнению с основной массой населения страны и связывали ее с влиянием исламских культурных традиций[245]. Есть и специалисты, отрицающие такую зависимость и доказывающие, что если учесть набор иных факторов, таких как регион проживания, уровень доходов, уровень грамотности, то показатели рождаемости, характерные для мусульманских и немусульманских семей в Индии, оказываются близкими[246]. Однако данные табл. 3.14, где приведены сведения об уровне рождаемости в Индии, Пакистане при сходных уровнях душевого ВВП, достаточно красноречивы.
Таблица 3.14. Рождаемость в Индии и Пакистане в годы со сходным размером ВВП на душу населения
Источник: 1 Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995; 2 World Development Indicators 2003. The World Bank.
Правда, в оценке влияния традиционных установлений на семейное поведение надо быть осторожным – помнить о динамичности и трудной предсказуемости социально-экономических изменений, связанных с современным экономическим ростом. На протяжении последних 20 лет распространение образования среди женщин в мусульманских странах стимулирует снижение рождаемости (табл. 3.15).
Таблица 3.15. Снижение коэффициента рождаемости[247] в некоторых мусульманских странах в последней трети XX в.
Источник: World Development Indicators 2003, World Bank.
Еще в 1970‑х годах было принято связывать более высокую рождаемость в странах католической традиции по сравнению с протестантскими странами с влиянием религиозных установлений. Сегодня, когда католические Испания и Италия относятся к числу западноевропейских стран с самыми низкими показателями рождаемости, этот тезис вышел из моды.
Другую группу стран, которые испытывают серьезные трудности при адаптации к современным реалиям, населяют народы, не прошедшие стадии аграрных цивилизаций, столкнувшиеся с вызовами современного экономического роста на уровне присваивающего хозяйства. Сюда же относятся этносы, для которых период аграрных цивилизаций, или протоцивилизаций, был очень коротким[248].
Великим аграрным цивилизациям – Китаю и Индии – потребовалось примерно полтора века, чтобы адаптироваться к условиям современного экономического роста, радикально перестроить устойчивую на протяжении столетий систему национальных институтов. Во второй половине XX – начале XXI в. их экономический подъем становится фактором, меняющим всю систему мировой экономики и политики, и, по всей вероятности, останется таковым и в первой половине текущего столетия[249].
Сейчас для многих стран Африки к югу от Сахары, которые населены народами, не прошедшими исторического периода аграрных цивилизаций, тоже пришло время адаптироваться к современным реалиям[250]. Они столкнулись с проблемами политической нестабильности, связанными среди прочего с эгоизмом и коррумпированностью правящих элит. Нередко это закрывает дорогу к ускоренным темпам развития, повышению уровня жизни (табл. 3.16).
Сегодня невозможно сказать, преодолимы ли подобные преграды, сколько времени понадобится, чтобы их устранить. Однако очевидно, что способность развивающейся страны адаптироваться к вызовам современного экономического роста напрямую зависит от длительности периода, в течение которого она жила в условиях аграрной цивилизации.
Еще один ключевой фактор, влияющий на траекторию национального развития в эпоху современного экономического роста, – унаследованная от аграрной стадии структура земельной собственности, степень ее концентрации[251]. Крайне неравномерное распределение земельной собственности в Латинской Америке, отсутствие здесь традиций европейского фермерства стали существенным фактором, ослаблявшим позиции среднего класса, а контраст непомерного богатства и вопиющей бедности приводит к нестабильности латиноамериканских правительств[252].
Таблица 3.16. Темпы роста ВВП на душу населения в африканских странах южнее Сахары, в Китае, Индии в 1961–2000 годах, %
Источник: Расчеты на основе данных World Development Indicators 2003. The World Bank.
Современный экономический рост вызывает глубокие и взаимосвязанные изменения важнейших характеристик общественной жизни – душевого производства и потребления, занятости, способа расселения, уровня образования, показателей рождаемости и смертности, средней продолжительности жизни, здоровья нации, государственного влияния на экономику, политической системы. Для каждого уровня душевого ВВП характерны определенные средние мировые показатели по каждому из перечисленных параметров. Однако необходимо помнить, что развитие любой страны не линейно и не одномерно. Более развитая страна своим опытом, своим примером демонстрирует менее развитой не будущее последней, а общие направления вероятных перемен. Национальные траектории зависят от множества факторов, которые, впрочем, поддаются и описанию, и анализу (с той или иной степенью точности).
Опыт XX в. показал, что представления о фундаментальной роли экономического развития, развития производительных сил в трансформации общественной жизни по существу верны. Чтобы разумно использовать эти представления на практике, необходимо видеть мир таким, какой он есть, – многомерным.
204
Династия Мин – Великая Минская империя под властью династии Мин просуществовала после отделения Китая от Монгольской империи (под управлением монгольской династии Юань) с 1368 по 1644 год.
205
“Зависимость от траектории предшествующего развития – это ключ к аналитическому пониманию долгосрочных экономических изменений” (см.: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997. С. 144). Эмпирические исследования показали, что установки на достижение жизненного успеха в различных странах тесно коррелируют с темпами экономического роста. Этот фактор, в свою очередь, связан с культурными традициями, унаследованными от аграрного общества (см.: Granato J., Inglehart R., Leblang D. The Effect of Cultural Values on Economic Development: Theory, Hypotheses and Some Empirical Tests // American Journal of Political Science. Vol. 40 (3). August 1996. P. 625). Некоторые исследователи доводят тезис о роли унаследованных от аграрного общества традиций в определении национальных траекторий в условиях современного экономического роста до крайности. Так, Д. Ландес пишет: “Если мы можем научиться чему-нибудь из истории экономического развития – это тому, что культура определяет все различия” (см.: Landes D. What Room for Aссident in History? Explaining Big Changes by Small Events // The Economic History Review. Vol. 47 (4). November 1994. P. 516).
206
Barro R. J., McCleary R. M. Religion and Economic Growth. NBER // Working Paper 9682. May 2003. Р. 35, 36.
207
Hume D. Of Superstition and Enthusiasm / Essays Moral, Political and Literary. London: Oxford University Press, 1963.
208
Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London; New York: Routledge, 1995. P. 38.
209
О влиянии конфуцианских традиций на специфику эволюции стран, имеющих это историческое наследие, см.: Xinzhong Yao. An Introduction to Confucianism. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
210
В работе “Konfuzionismus and Daosismus” М. Вебер подробно описывает то, как конфуцианская философия и даосизм служат препятствием развитию капитализма в Китае. Он же считал, что японцам создать основы капиталистической экономики будет еще сложнее, чем китайцам. Э. де Сото справедливо отмечает: “Предположение, что именно культура объясняет процветание столь разных Японии, Швейцарии или Калифорнии (штат США) и что в ней же кроется причина относительной бедности не менее разнящихся между собой Эстонии, Китая и Байя Калифорнии (штат Мексики), не только негуманно, оно неубедительно” (см.: Сото Э. де. Загадки капитала. М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2001. С. 16; Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie. Bd I–III. Tubingen, 1920–1921).
211
Inglehart R. The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among Western Public. Princeton: Princeton University Press, 1977. P. 61, 62. Схожие выводы см.: Economic Growth: Theory and Evidence / Grossman G. M. (ed.). Vol. 1. Cheltenham, UK – Brookfield, US: An Elgar Reference Collection, 1996. P. 25.
212
Lenski G. The Religions Factor. New York: Anchor-Doubleday, 1963; Alwin D. F. Religion and Parental Child-Rearing Orientations: Evidence of a Catholic-Protestant Convergence // American Journal of Sociology. 1986. 92. P. 412–440.
213
Landes D. The Wealth and Poverty of Nations. Why Some Are So Rich and Some So Poor. New York; London: W. W. Norton & Company, 1999. P. 178.
214
Сastles F. Economic Development and the Welfare State // Welfare State Futures. Leibfried S. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 41–43.
215
“У современных обществ… много общих черт. Но обязательно ли они стремятся к однородности? Аргумент, что это так и происходит, покоится на предположении, что современное общество должно приблизиться к единому, западному типу, что современная цивилизация – это западная цивилизация, а западная цивилизация – это современная цивилизация. Это, однако, в полной мере ложное тождество. Западная цивилизация родилась в VIII–IХ вв. и развивала свои специфические черты в последующие столетия. Ее модернизация началась не раньше XVII–XVIII вв. Запад был Западом задолго до того, как западная цивилизация стала современной. Основные характеристики Запада – те, которые отделяют его от других цивилизаций, – датируются более ранним сроком, чем модернизация Запада” (см.: Huntington S. P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Touchstone, 1996. P. 69). О влиянии традиций, унаследованных от аграрного общества, на набор эффективных стратегий адаптации национальных институтов к реалиям современного экономического роста см. также: Morishima M. Why Has Japan “Succeeded”? Cambridge; London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1982. Р. 194–201.
216
См., например: Huntington S. P. The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. Р. 44–47.
217
Тацит К. Со ч.: В 2 т. Анналы. Малые произведения. Т. 1. М.: Ладомир, 1993. С. 360.
218
Adelman I. State and Market in Economic Development of Korea and Taiwan. Berkeley, California: University of California at Berkeley, 1996. P. 3, 4.
219
Nair K. Blossoms in the Dust. New York: Frederick A. Praeger, 1962. P. 192–193; Anstey V. The Economic Development of India. London: Longmans Green and Company, 1936. P. 47. Д. Лал обращает внимание на то, что кастовая система в Индии, обеспечивавшая долгосрочную стабильность, оказалась серьезным препятствием на пути адаптации Индии к условиям современного экономического роста. Несмотря на то что Индия на протяжении многих веков была вовлечена в широкую международную торговлю, кастовая система исключала влияние тех, кто был связан с торговлей, на государственное управление. Представители правящих каст были слабо осведомлены обо всем, что связано с торговлей (см.: Lal D. Cultural Stability and Economic Stagnation: India. C. 1500 BC – 1980 AD. Oxford, 1988. P. 309–314). О связи кастовой системы с медленным распространением массового образования в Индии см.: Roy T. Economic History and Modern India: Redefining the Link // The Journal of Economic Perspectives. Vol. 16. 3. Summer 2002. Р. 109–130. Есть и исследователи, считающие, что представление о влиянии кастовой системы на социальную мобильность в индийском обществе преувеличено, на деле социальная структура является более гибкой, чем это следует из канонических текстов (см.: Morris M. D. Values as an Obstacle to Economic Growth in South Asia: An Historical Survey // The Journal of Economic History. Vol. 27. Issue 4. Dec. 1967. Р. 600–607).
220
Hallpike C. R. The Principles of Social Evolution. Oxford: Clarendon Press, 1986. P. 293.
221
“Страны, начавшие экономический рост в первое десятилетие XIX в., имели правительства, которые защищали частную собственность, гарантировали выполнение частных контрактов, были готовы устранять «узкие места» в развитии производства и рынка. Эти установления принципиально значимы для распространения промышленной революции и долгосрочного экономического роста, который она обеспечивала. Они составляли институциональное ядро современного капитализма” (см.: Adelman I. The Genesis of the Current Global Economic System // A. Levy-Livermore (ed.). Handbook of the Globalization of the World Economy. Cheltenham: Edward Elgar, 1998).
222
Rodrik D. Institutions for High-Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them // NBER. Working Paper 7540. P. 15.
223
Alexander W. The History of Women From the Earliest Antiquity to the Present Time. Giving an Account of Almost Every Interesting Particular Concerning That Sex, Among All Nations, Ancient and Modern. Bristol: Thoemmes Press, 1995. Об ограниченной роли связей в рамках большой семьи в Северо-Западной Европе по сравнению с другими аграрными обществами см.: Macfarlane A. The Origins of English Individualism. New York: Cambridge University Press, 1979. Р. 3. Утверждение, что в Европе чем дальше мы продвигаемся на восток и юг от Северо-Западной Европы, тем более широкой является семья, – слишком сильное. Однако оно достаточно точно отражает общие тенденции доминирующих здесь взаимосвязей географического положения и структуры семьи (см.: Family Forms in Historic Europe / Wall R., Robin J., Laslett P. (eds.). Cambridge; London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1983. Р. 51). О причинах такой эволюции семьи в Европе см. в гл. 10.
224
Bede’s Ecclesiastical History of the English People. Oxford: Clarendon Press, 1969; Goody J. The Development of the Family and Marriage in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 34–47, 103–156.
225
Тихоцкая И. С. Семья в Японии: традиции и современность // Япония 2000–2001. Ежегодник. М., 2001. С. 70–71, 184.
226
Райсхауэр пишет: “Китайская семья была обширной, простираясь в каждом направлении вплоть до пятого поколения. В идеале предполагалось, что представители всех поколений совместно проживают в одном большом доме, разделенном внутренними двориками. В принципе это было доступно только богатым. Обычное домохозяйство насчитывало в среднем пять человек и на самом деле представляло собой семью скорее западного типа, а не идеал большой китайской семьи… Отец-патриарх был средоточием власти [в семье] и, по крайней мере теоретически, управлял семейной собственностью и организовывал браки своих детей и внуков” (см.: Reischauer E. O., Fairbank J. K. China: Tradition & Transformation. Boston: Houghton Mifflin, 1989. P. 15, 16).
227
По вопросу о том, насколько на высоких уровнях развития устойчивы механизмы взаимопомощи в рамках широкой семьи, мнения специалистов расходятся (см.: Lal D. Unintended Consequences: the Impact of Factor Endowments, Culture and Politics on Long-Run Economic Performance. Cambridge; Massachusetts; London: The MIT Press, 1998; Jones E. The Record of Global Economic Development. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar, 2002).
228
Об аномально высокой норме сбережения в Юго-Восточной Азии см.: Bosworth B. P. Saving and Investment in a Global Economy. Washington: The Brookings Institution, 1993; Мельянцев В. А. “Восточноазиатская модель” экономического роста: важнейшие составляющие, достоинства и изъяны. М., 1998. С. 11, 12; Adelman I. State and Market in Economic Development of Korea and Taiwan. Berkley; California: University of California at Berkley, 1996. P. 47–50. При этом исследования норм сбережения иммигрантов в Северной Америке не подтверждают устойчивости влияния традиций на норму сбережения в условиях эмиграции (см.: Carroll C. D., Rhee B.-K., Rhee C. Are There Cultural Effects on Saving? Some Cross-Sectional Evidence // Quarterly Journal of Economics. Vol. CIX. № 3. 1994. Р. 698).
229
* Показатель указан без учета населения России. С учетом доли России он составит 21,6 и 27,7 % для 1820 и 1913 годов соответственно.
230
М. Вебер в работе “Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Band 1: Konfuzianismus und Taoismus” справедливо отмечал роль личных, в том числе семейных, отношений в функционировании китайского общества как существенно более важную, чем в Западной Европе (см.: Weber M. The Religion of China Confucianism and Taoism. London: Collier – Macmillan, 1964). О проблемах, возникающих при попытках ввести западные нормы поведения в отношения с членами широкой семьи, бороться в исламских странах с тем, что на Западе называют “капитализм по знакомству”, см.: Lewis B. Islam in History: Ideas, Men and Events in the Middle East. Bradford; London: Alcove Press, 1973. Р. 289–293.
231
О роли отношений в широкой семье в развитии предпринимательства в Восточной Азии см.: Ethnic Business: Chinese capitalism in Southeast Asia / Jomo K. S., Folk Brian C. (eds.). London; New York: Routledge Curzon, 2003. P. 3, 9, 10, 15–17, 20, 21, 23, 32, 33, 52, 53, 71; Clayton D. W. Industrialization and Institutional Change in Hong Kong 1842–1960 // Latham A. J. H., Kawakatsu H. (eds.). Asia Pacific Dynamism: 1550–2000. London; New York: Routledge, 2000. Р. 149–168. “Гуаньси” (дословно – связи, отношения) – система неформальных социальных связей построена обычно по семейному, клановому принципу. Антрополог Э. Кипнис назвал их “отношениями социальной поддержки, укрепляемыми чувством взаимной приязни между участниками” (см.: Kipnis A. B. Producing Guanxi: Sentiment, Self and Subculture in a North China Village. Durham: Duke University Press, 1997; Адамс О. Коррупция в КНР сквозь призму китайской политической культуры. М.: МГУ, 2001. С. 5, 6). Другое название системы неформальных связей, основанной на взаимных обязательствах, описывает ее важность для китайца: “«бамбуковая сеть» должна быть надежной и одновременно гибкой. Только когда правильно скрепишь отдельные звенья воедино – не слишком сильно, чтобы не сломать бамбук, но не слишком слабо, чтобы не разрушить всю сеть, – она сослужит тебе хорошую службу” (см.: Rose-Ackerman S. Corruption and Government. Causes, Consequences and Reform. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 12).
232
Видимо, в силу того что подобные традиции не чужды и России, этот укоренившийся в английском языке термин так и не получил адекватного перевода на русский язык. Crony capitalism буквально означает “капитализм по знакомству”, “приятельский капитализм”.
233
“Это тотально объединенный стиль жизни, религиозный и светский; это набор верований и способ вести войну; это развернутая и целостная система законодательства; это культура и цивилизация; это экономическая система и способ предпринимательства; это политика и способ организации власти; это особый вид общества и способ руководства семьей; он регулирует наследование и разводы, одежду и этикет, еду и личную гигиену” (см.: Jansen G. H. Militant Islam. London: Pan Books, 1981. Р. 17).
234
Gellner E. Muslim Society. Cambridge; London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1981. Р. 2–3.
235
“Коран – нечто большее, чем просто боговдохновенная книга (как Библия у христиан), это прямая речь Бога – предельно монолитная и однозначная” (см.: Тихонравов Ю. Опыт комплементарности // Отечественные записки. 2003. № 5 (14). С. 69).
236
См.: Малашенко А. Мусульмане в начале века: надежды и угрозы. М.: Московский центр Карнеги, Рабочие материалы. 2002. № 7. С. 4.
237
См.: Бартольд В. В. Культура мусульманства. М.: Леном, 1998. С. 205.
238
Landes D. What Room for Accident in History? Explaining Big Changes by Small Events // The Economic History Review. Vol. 47 (4). November 1994.
239
См.: Мирский Г. Цивилизация бедных // Отечественные записки. 2003. № 5 (14). С. 21.
240
Lewis B. Islam in History: Ideas, Men and Events in the Middle East. Bradford, London: Alcove Press, 1973. Р. 300, 301.
241
Сумма кредитов, выданных банками частному сектору в арабских и мусульманских странах по отношению к ВВП (46–48 % в 2001 г.), ниже, чем в среднем по развивающимся странам (52–54 %), и существенно ниже, чем в новых индустриальных странах Юго-Восточной Азии (120–130 %) (см.: World Development Indicators. 1998. P. 256–258; 2003. P. 258–260; Creane S., Goyal R., Mobarak M., Sab R. Banking on Development / Finance and Development. 2003. Vol. 40. № 1; Мельянцев В. Экономика полумесяца // Вестник Европы. 2004. Т. XII. С. 88–99).
242
“Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед другими, и за то, что они расходуют из своего имущества” (см.: Коран. Сура 4: Женщины. Стих 38 (34) / Пер. И. Ю. Крачковского. М., 1986. С. 85).
243
См.: Мельянцев В. Экономика полумесяца / Вестник Европы. 2004. Т. XII. С. 89.
244
Среднее число детей на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет.
245
Moulasha K., Rao G. R. Religion-Specific Differentials in Fertility and Fa mily Planning // Economic and Political Weekly. Vol. 34 (42). 1999. P. 3047–3051.
246
Jeffery R., Jeffery P. Religion and Fertility in India // Economic and Political Weekly. Vol. XXXV. 2000. № 35, 36. P. 3253, 3254.
247
Число рождений на 1000 жителей.
248
Дж. Даймонд в работе 1997 года показывает, как на протяжении последних двух веков время перехода к оседлому сельскому хозяйству повлияло на специфику национальной траектории развития (см.: Diamond J. Guns, Germs and Steel: The Fate of Human Societies. New York: W. W. Norton & Co., 1997). С. Сандэрсон обращает внимание на трудности адаптации к условиям индустриального общества тех стран, население которых не прошло стадию аграрных цивилизаций и не вышло к началу современного экономического роста за пределы уровня развития, для которого характерны охота, собирательство и раннее сельское хозяйство (см.: Sanderson S. Social Transformations: a General Theory of Historical Development. Oxford-Cambridge: Blackwell, 1995).
249
Многие из тех, кто занимается долгосрочными перспективами экономического развития, считают, что увеличение доли Китая, Индии, Бразилии и России в мировой экономике станет одним из важнейших факторов долгосрочного развития в первой половине XXI в. (см.: Wilson D., Purushothaman R. Dreaming With BRICs: The Path to 2050 // Global Economics Paper No. 99. October 2003).
250
О необходимости введения специального параметра, связанного с принадлежностью страны к региону Африки к югу от Сахары, для определения причин более медленных темпов экономического роста см.: Grossman G. M. (ed.). Economic Growth: Theory and Evidence. Vol. 1. Cheltenham, UK Brookfield, US: An Elgar Reference Collection. 1996. P. 435, 436.
251
Anderson E., Anderson P. Political Institutions and Social Change in Continental Europe in the Nineteenth Century. Berkley Los Angeles: University of California Press, 1967.
252
О формировании системы концентрированной земельной собственности в Латинской Америке и ее влиянии на проблемы последующего экономического развития, адаптацию к условиям современного экономического роста см.: Engerman S. L., Sokoloff K. L. Factor Endowments: Institutions and Differential Paths of Growth Among New World Economies: A View from Economic Historians of the United States // NBER. Working Paper No. H0066, December 1994; а также: Huber E., Safford F. (eds.). Agrarian Structure and Political Power. Pittsburgh; London: University of Pittsburgh Press, 1995; Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon Press, 1996. Возможно, в этом наследии причина того, что подавляющее большинство стран Латинской Америки в отличие, например, от Тайваня и Южной Кореи не смогли провести эффективные земельные реформы. Р. Барро отмечает необходимость учета принадлежности страны к региону Латинской Америки как фактора, негативно влияющего на темпы экономического роста (см.: Barro R. J. Economic Growth in a Cross Section of Countries // Quarterly Journal of Economics. CVI (2). May 1991. P. 407–443).