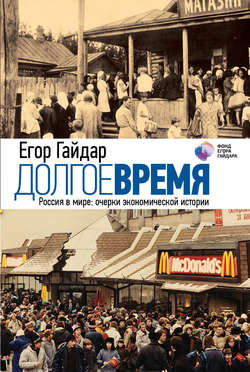Читать книгу Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории - Егор Гайдар - Страница 22
Раздел II
Аграрные общества и капитализм
Глава 4
Традиционное аграрное общество
§ 1. Неолитическая революция
ОглавлениеДесять тысячелетий назад люди занимались охотой, рыболовством и собирательством, вели присваивающее хозяйство. Постоянных поселений было мало, для тех времен характерен полукочевой и кочевой образ жизни. Еще не зародились такие элементы цивилизации, как организованное накопление знаний, грамотность. Но именно с этого исторического момента начинаются перемены в организации общественной жизни, в результате которых большая часть человечества переходит к производящему хозяйству – организованному земледелию, одомашниванию скота. Люди оседают на земле, растет население, появляются города. Как особый вид деятельности выделяются ремесла, позднее зарождается письменность, формируется стратифицированное государство. В жизни общества происходят масштабные и взаимосвязанные изменения, обусловленные развитием производительных сил – распространением земледелия и скотоводства. В ходе этих изменений и складываются специфические, устойчивые черты аграрной цивилизации как способа организации жизни на тысячелетия: от перехода к оседлому земледелию до начала индустриализации и современного экономического роста.
В историко-экономической литературе идет оживленная дискуссия: увеличивался душевой ВВП (и вместе с ним уровень жизни) за тысячелетия аграрного общества или нет? Некоторые исследователи считают, что рост был и можно выделить относительно длительные периоды, когда этот показатель в аграрных обществах увеличивался[258]. Но даже если их предположения верны, бесспорно, что темпы роста были низкими, несопоставимыми с теми, что наблюдаются последние два века (см. табл. 1.2 в гл. 1).
Основа экономики традиционного общества – земледелие и скотоводство, доминирующее место расселения – деревня, базовая общественная ячейка – крестьянская семья со своим хозяйством. В сельском хозяйстве занято более 85 % населения. На периферии оседлых цивилизаций разбросаны доцивилизационные общества, которые состоят из охотников и собирателей.
В разных странах формы общественной организации на протяжении аграрного периода различаются, иногда существенно, но занятость подавляющего большинства населения в сельском хозяйстве, ограниченное распространение городов, грамотности, демографические характеристики, уровень жизни, преобладание натурального хозяйства – все это черты аграрных цивилизаций.
Неолитическая революция, переход к новым формам организации производства и общественной жизни были временем радикальных, хотя и растянутых на тысячелетия, перемен и масштабных инноваций. Однако стоило основным институтам аграрной цивилизации окончательно сформироваться, как эти инновационные процессы замедлились[259]. И уже несколько десятилетий исследователи задают себе резонные вопросы: в чем причины этого замедления, почему те формы организации экономики и общества, тот уровень жизни, которые были присущи ранним аграрным цивилизациям, оказались столь устойчивыми, что продержались без существенных перемен длительный, охватывающий десятки поколений период развития человечества? Чтобы найти ответы на эти вопросы, надо понять отличия общества, сложившегося в ходе неолитической революции, как от предшествовавшего ему общества охотников-собирателей, так и от нынешней городской цивилизации.
Общество охотников-собирателей, как показывают антропологические исследования, было эгалитарным[260]. В то время люди жили группами численностью от 20 до 60 человек. В поисках диких животных и съедобных растений они часто меняли место обитания[261]. Для успешной охоты необходим лидер. Сообщество выбирает его из числа самых опытных и авторитетных своих членов. Сила, ловкость, охотничий опыт – залог престижа и авторитета. Статус лидера, как правило, не наследовался, не передавался из поколения в поколение. Успех на охоте давал дополнительные права на добычу, но они были ограничены нормами обмена дарами[262], традициями, которые диктовали правила распределения добытого[263]. При кочевом образе жизни возможности накапливать имущество ограниченны[264]. Определенные имущественные отношения, которые в современных терминах с большой натяжкой можно назвать отношениями собственности (например, закрепление охотничьих угодий за отдельными семьями), все же возникали. Впрочем, некоторые исследователи полагают, что говорить о собственности в данном случае не приходится – просто на семью или группу охотников сообщество возлагало ответственность за участок леса и поручало отслеживать добычу[265]. Собирательство было главным образом женским занятием, охота – мужским. Охотником становился каждый взрослый мужчина. Охотничьи навыки те же, что и военные, по крайней мере, в доаграрную эпоху. И сражались с неприятелем, как правило, тем же оружием, с которым охотились. Специальное военное снаряжение появилось позже, на более высоких стадиях развития. Племена охотников-собирателей отличались друг от друга: одни – агрессивные, воинственные, другие – миролюбивые, избегающие насилия. Это убедительно демонстрирует антропология. Характерно, что столкновения и межплеменные войны редко вспыхивали по экономическим мотивам. В обществах охотников-собирателей военные походы за добычей распространены мало. Основные причины вооруженных столкновений – кровная месть, похищения женщин, защита и передел территорий, но не присвоение чужой добычи[266]. Это понятно. Каждый мужчина – воин. Накопленного имущества мало. Племя легко может сменить место обитания, переселиться подальше от назойливых воинственных соседей. Соотношение стимулов к вооруженным столкновениям и их негативных последствий лишает войны и грабеж привлекательности.
Примеры влияния освоения новых знаний и навыков на изменение системы социальных отношений известны и до масштабных изменений, связанных с распространением земледелия и одомашниванием скота. Это изобретение огня[267]. До него почти нет сохранившихся примеров захоронения людей в возрасте старше 60 лет. Обычай убивать или оставлять умирать стариков широко распространен в раннем палеолите. После изобретения огня, когда его поддержание становится самостоятельной функцией, впервые появляются захоронения стариков[268]. Еще одно крупное нововведение, существенно изменившее образ жизни человечества в период, предшествующий неолитической революции, – изобретение лука. Он появляется в период верхнего палеолита. Наиболее раннее свидетельство его использования найдено при раскопках поселений периодов палеолита в Старом Свете, на территории современной Франции, относящихся к перигорской и салютрейской культурам (28–17 тыс. лет до н. э.)[269]. Но по масштабу взаимосвязанных изменений в социальной структуре, экономике, демографии неолитическая революция является уникальным периодом в истории человечества[270].
К. Киполла определяет неолитическую (сельскохозяйственную) революцию как процесс, в результате которого человек пришел к управлению, росту и совершенствованию имевшихся в его распоряжении растительных и животных ресурсов[271]. Дискуссия о том, что проложило ей дорогу, идет давно и вряд ли когда-нибудь завершится. Г. Чайлд, который, как упоминалось, ввел в научный оборот этот термин, связывал неолитическую революцию с окончанием ледникового периода и климатическими изменениями[272]. Эта гипотеза до сих пор не подтверждена, но и не опровергнута. В экономико-исторической литературе наибольшее распространение получила другая точка зрения: рост населения и его плотности уже не позволял вести присваивающее хозяйство; это объективно подталкивало к инновациям, которые позволяли прокормить на той же территории больше людей[273]. Между 100‑м и 10‑м тысячелетиями до н. э. население планеты росло, но не достигало предела, за которым охотники и собиратели уже не могли обеспечить свое существование. Затем возможности такой организации общества были исчерпаны. Дальнейший рост населения потребовал новых способов хозяйствования, которые могли бы повысить продуктивность использования земли.
258
Jones E. L. The Record of Global Economic Development. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2002; Idem. Growth Recurring: Economic Change in World History. Oxford: Clarendon Press, 1988. P. 69; Bairoch P. Cities and Economic Development: From the Dawn of History to the Present. Chicago: The University of Chicago Press, 1988.
259
О замедлении процесса создания новых технологий после становления цивилизаций см.: McNeill W. H. The Rise of the West. A History of the Human Community with a Retrospective Essay. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1991. P. 40.
260
О социальной организации охотников-собирателей см., например: Lee R. B., Daly R. The Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
261
Степень мобильности и стационарности поселений обществ охотников-собирателей менялась под влиянием динамики окружающей среды: их стоянки во времена массовой охоты на крупных животных (носорогов, овцебыков, мамонтов) были более стационарными. С переходом к охоте на мелкую дичь образ жизни становится мобильным (см.: История СССР. Первая серия. Т. I: С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. М.: Наука, 1966. С. 34–37).
262
О роли реципрокных отношений в доаграрном и раннеаграрном обществах см.: Thurnwald R. Banaro Society: Social Organization and Kinship System of a Tribe in the Interior of New Guinea // American Anthropological Association. Memoirs. Vol. 3. No. 4. 1916; Idem. Economics in Primitive Communities. London: Oxford University Press, 1932; Malinowski B. Crime and Custom in Savage Society. Paterson New Jersey: Littlefield, Adams and Co., 1959; Benedict R. Patterns of Culture. Boston: Houghton Mifflin Company, 1959; Mead M. (ed.) Cooperation and Competition among Primitive Peoples. New York; London: McGraw-Hill Book Co., 1937.
263
Охотник, чья стрела первой попала в животное, получает половину шкуры и внутренности и сверх того имеет право любую половину шкуры отдать любому сотоварищу по охоте. Тот, чья стрела была второй, имеет право на пузырь. Мясо разделяется между всеми, принимавшими участие в охоте (см.: Островитянов К. В. Политическая экономия досоциалистических формаций: Избр. произв. Т. 1. М.: Наука, 1972. С. 161).
264
“Всеобщая бедность утверждает и всеобщее равенство; превосходство возраста или личных качеств является слабым, но единственным основанием власти и подчинения” (см.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 2. М.; Л.: Соцэкгиз, 1931. С. 304–305).
265
Herskovits M. J. Economic Anthropology. A Study in Comparative Economics. New York: Alfred A. Knopf, 1952. P. 319, 320, 322, 340, 341.
266
См.: Шнирельман В. А. У истоков войны и мира // Першиц А. И., Семенов Ю. И., Шнирельман В. А. Война и мир в ранней истории человечества. Т.1. М.: РАН, Институт этнологии и антропологии, 1994. С. 99, 100.
267
Дж. Бернал в своей классической работе “Наука в истории человечества” писал: “Почти каждое из ранних механических достижений человека… уже были предвосхищены отдельными видами животных, птиц или даже насекомых. Но одно изобретение – употребление огня… совершенно недостижимо для любого животного. Еще предстоит открыть, каким образом человек пришел к использованию огня и почему он решился обуздать и поддерживать его… Его сохранение и распространение в первую очередь должно было быть устрашающим, опасным и трудным делом, о чем свидетельствуют все мифы и легенды об огне” (см.: Бернал Д. Д. Наука в истории общества. М.: Изд-во иностранной литературы, 1956. С. 45).
268
Россет Э. Продолжительность человеческой жизни. М.: Прогресс, 1981. С. 171–181.
269
Луки и арбалеты / Под ред. Л. И. Рославлева. М.: Майор, 2002. С. 356.
270
Термин “неолитическая революция” не должен вводить в заблуждение. Процесс перехода от присваивающего хозяйства к производящему был длительным, на Переднем Востоке он проходит в течение 2–3 тысячелетий, в Новом Свете – 3–4 тыс. лет (см.: Андрианов В. Б. Хозяйственно-культурные типы и исторические процессы // Советская этнография. 1968. № 2. С. 19). “Я использую термин «неолитическая, или сельскохозяйственная, революция» не в связи с темпами, но в связи с революционным характером изменения, которое, вне зависимости от ее темпов, превратило охотников и собирателей в пастухов и фермеров” (см.: Cipolla C. M. The Economic History of World Population. New York: Penguin Books, 1978. P. 34).
271
Cipolla C. M. The Economic History of World Population. P. 44.
272
См., например: Child V. G. The Dawn of European Civilization. New York: Knop, 1958. P. 1–13. Эту же точку зрения впоследствии отстаивали и другие авторы (см.: Heizer R. F. Primitive Man as an Ecologic Factor. Kroeber Anthropological Society Papers № 13 Berkley Univ. California Press, 1955; Martin P. S, Guilday J. E. A Bestiary for Pleistocene Biologists / Pleistocene Extinctions edited by P. S. Martin, H. E. Wright, Jr. New Haven, Conn., Yale University, 1967; Martin P. S. Prehistoric Overkill / Pleistocene Extinctions edited by P. S. Martin, H. E. Wright, Jr. New Haven, Conn., Yale University, 1967; Issar A. S. Climate Changes During the Holocene and Their Impact on Hydrological Systems. Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
В своих работах 1968 года Л. Бинфорд и М. Коен продемонстрировали близость по времени трех протекавших процессов – исчезновения крупных животных – объекта охоты в эпоху мезолита, появления деревень, освоения навыков, связанных с земледелием и скотоводством (см.: Binford L. Post Pleistocene Adaptations / Leane M. (ed.). New Perspectives in Archeology. Chicago: Aldine Publishers, 1968. Ch. 21; Cohen M. The Food Crisis in Prehistory. New Haven: Yale University Press, 1977). О связи окончания ледникового периода (20–10‑е тысячелетие до н. э.) и неолитической революции см.: Mithen S. After the Ice: A Global Human History, 20,000–5000BC. London: Wiedenfeld & Nicolson, 2003.
273
Л. Бинфорд и К. Фланери обращают внимание на рост плотности населения как важнейший фактор перехода к оседлому сельскому хозяйству (см.: Binford L. R. Post-Pleistocene Adaptations // Binford S. R., Binford L. R. (eds.). New Perspective in Archaeology. Chicago: Aldine Press, 1968; Flannery K. The Origins and Ecological Effects of Early Domestication in Iran and the Near East // Veko P. S., Dimbley G. W. (eds). The Domestication of Plants and Animals. Chicago: Aldine Press, 1969). О связи образования стратифицированного государства и перехода к оседлому образу жизни с плотностью населения см.: Carneiro R. L. Political Expansion as an Expression of the Principle of Competitive Exclusion // Cohen R., Service E. R. (eds.). Origins of the State: The Anthropology of Political Evolution. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues. 1978. P. 205–208; Pryor F. L. The Adoption of Agriculture: Some Theoretical and Empirical Evidence // American Anthropologist. Vol. 88. № 4. December 1986. P. 879.