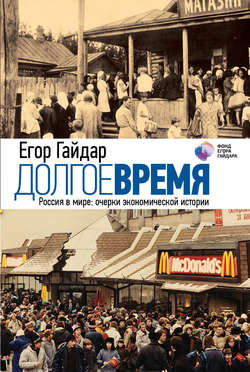Читать книгу Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории - Егор Гайдар - Страница 34
Раздел II
Аграрные общества и капитализм
Глава 6
Феномен античности
§ 3. Античный путь эволюции социальных институтов
ОглавлениеЭволюция античных институтов показывает: существовал отнюдь не единственный путь от примитивных социальных структур раннего неолита к трансформации даров в налоги, к разделению на сельское хозяйство как занятие основной массы населения и на специализацию в государственном управлении, в насилии. В особых условиях оказывается возможным альтернативный путь – отказ от системы даров, восприятие налогов как признака рабства, формирование общества крестьян-воинов, стабилизация полисной демократии.
Античный путь эволюции позволяет сочетать преимущества кочевых народов, где каждый мужчина – воин, с благами цивилизованного оседлого государства: большими экономическими ресурсами, развитой культурой, высоким уровнем организации, в том числе и военного дела. Греческая фаланга и римские легионы – лучшие для своего времени, по крайней мере в Средиземноморье, военные структуры.
Жители полиса в своем большинстве занимаются сельским хозяйством. Это характерно даже для Афин, одного из самых урбанизированных центров античности. И здесь город лишь центр полиса, в котором можно организовать защиту от врага.
В античном мире торговые отношения, порожденные разделением труда внутри средиземноморской триады, необычайно глубоко для аграрного мира проникают в жизнь массы крестьянского населения. Отсюда роль городов как торговых центров и одновременно центров политической самоорганизации. В аграрных цивилизациях города рассматриваются как аномалия, отклонение в организации общественной жизни, место дислокации правящей элиты, центр опутывающей государство налоговой паутины. Для крестьян город – нечто враждебное. В спаянном торговлей античном мире город, напротив, органичная и неотъемлемая часть крестьянского общества.
Необычно высокий, непревзойденный вплоть до XVII–XVIII вв. н. э. уровень урбанизации античного мира – общеизвестный факт, равно как и существенно меньшая, чем в классических аграрных обществах, хотя и доминирующая в экономической жизни роль сельского хозяйства[468]. В античном мире выше значение торговли. Алфавитный способ письма стал предпосылкой широкого распространения грамотности. Если иероглифическая письменность в аграрных государствах доступна лишь немногим посвященным, то в греческом полисе алфавит – достояние большинства граждан. Новая система письменности становится универсальным средством передачи информации, которое можно с успехом применять и в деловой переписке, и для стихосложения, и для сохранения философских конструкций[469].
Фактор, обеспечивший возможность подобной эволюции общественных институтов, – удаленность Греции, где формировалась эта античная аномалия, от крупных и агрессивных централизованных государств[470].
Важнейшее социальное разграничение в аграрном обществе – деление на полноправных граждан, в чью обязанность входит лишь служба, в первую очередь военная, и неполноправных, платящих прямые налоги государству или подати господину. В греческих общинах архаического периода твердо закрепляется иной принцип. Члены общины, они же воины, совместно участвуют в боевых действиях и не платят прямых налогов[471]. Для греческого мира характерно отождествление прямых налогов с рабством[472]. Ввести их стремились тираны, которым нужны были средства на наемную стражу, на раздачу денег плебсу для поддержания собственной популярности. Размышления о связи налогов и тирании мы находим и у Аристотеля[473].
Индоарии, в том числе и греки, прежде чем осесть на землю, по-видимому, как мы уже отмечали в предыдущей главе, обладали многовековым опытом жизни кочевников-скотоводов. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что во многих европейских языках слова для обозначения лошади значительно более схожи, чем лексика, связанная с оседлым земледелием. Трудно сказать, насколько характерные для кочевников представления о том, что свободные люди не платят прямых налогов, повлияли на формирование греческих традиций, однако не только греки, но и многие другие индоевропейские народы тесно связывали налоговое бремя с рабством. Когда на закате Рима готов расселяли на территории империи, римляне вынуждены были освобождать варваров от налогов, поскольку те не допускали отношения к себе как к рабам.
Греки сумели так организовать военное дело, что крестьяне могли эффективно противостоять воинам-профессионалам аграрных империй[474]. Геродот, как известно, в несколько раз преувеличил численность персидского войска, с которым греки столкнулись во время похода Ксеркса. Но это типичный для военной истории случай, когда при сравнительной оценке крестьянского ополчения и профессиональной армии качество переведено в количество[475]. Каким бы ни было численное соотношение греков-ополченцев и профессионалов-персов, результат известен: организованные крестьяне отбросили полчища Ксеркса. Организация военного дела у оседлых греков оказалась не менее эффективной, чем у горцев или степных кочевников.
Развитие военного дела оказывало непосредственное влияние на формы полисной демократии. Массовое применение оружия из железа, закат эпохи колесниц, появление тяжеловооруженной фаланги гоплитов[476] – все это расширяло участие воинов в делах полиса, вело к ослаблению аристократии[477]. Программа строительства флота, требующая привлечения к морской службе малообеспеченных граждан, создавала предпосылки для всеобщего избирательного права, которое распространялось, разумеется, лишь на свободных граждан – мужчин.
Финансовое благополучие классического античного города Афин зиждется на сборах за экспорт и импорт через порт Пирей и доходах от рудников. Во время войн как временная и чрезвычайная мера вводятся прямые сборы с граждан[478]. Часть государственных функций выполняется не за деньги и не в виде обязательной трудовой повинности, а в качестве почетной обязанности – литургии.
Отсутствие прямых подушевых и поземельных налогов не только отличает античный мир от аграрных государств, но и создает предпосылку для принципиально иной эволюции отношений собственности, в первую очередь важнейшего в аграрную эпоху вида собственности – земельной. Собственность крестьянина в аграрных государствах обременена обязательствами. В ней переплетаются права обрабатывать землю и кормиться с нее и обязанности содержать господствующую элиту. Если нет прямых налогов и других изъятий у крестьян, более того, они несовместимы с традициями, то формируются простые и понятные земельные отношения. Земля принадлежит тому, кто пользуется ее плодами; он может распоряжаться ею по своему усмотрению: закладывать, продавать, обменивать. Это послужило базой для специфической модели нераздельной, не обремененной обязательствами, свободно обращающейся на рынке частной собственности, а в античном мире породило острейшие проблемы, связанные с распределением земли[479].
В аграрных государствах нередки были случаи, когда крестьян насильственно прикрепляли к земле, чтобы они гарантированно выполняли свои обязанности перед государством или правящей элитой. Если земля не обременена обязательствами, втянута в рыночный оборот, от обеспеченности ею зависит благосостояние крестьянской семьи, возможность для землевладельца выполнять обязанности полноправного гражданина, в первую очередь воинские обязанности. Естественно, борьба за распределение земли не могла не обостриться. Она становилась важнейшей частью античной истории. Античная традиция устойчиво связывает все попытки земельного передела с угрозой тирании[480].
Концентрация земельной собственности при характерных для того времени представлениях об унизительности наемного труда, его несовместимости со статусом полноправного члена общины, крестьянина-воина подталкивала к различным социальным выплатам и раздачам. Это становилось немалым бременем для античных городов. В Афинах на деньги от взносов и пошлин содержалось свыше 20 тыс. человек[481]. Ш. Монтескье[482] писал о пауперизации римского населения из-за широкого распространения социальных раздач[483].
В традиционных аграрных обществах возникновение административной лестницы – иерархии ролей в исполнении государственных функций, перераспределение ресурсов, формирование налоговой системы, разделение общества на тех, кто платит налоги, и тех, кто их не платит, – важнейшие элементы социальной дифференциации. Параллельно идет процесс имущественной дифференциации, который переплетается с распределением статусов в системе государственной власти, но значение его второстепенно. В условиях античного общества, где велика роль торговли, важнейшей линией общественного расслоения становится имущественная дифференциация[484].
Развитие рынка, широкое вовлечение античного общества в торговлю позволяют гражданам дополнять свои скромные доходы от сельского хозяйства тем, что приносит разделение труда. Но чем больше развивается торговля, тем неравномернее распределяются полученные от торговли богатства. Чем больше концентрируется земельная собственность, чем меньше крестьян-воинов остается в общине, тем она слабее. Это одна из стержневых проблем в политической истории и античной Греции, и республиканского Рима.
Со становлением полиса связано укоренение представлений о правах человека (разумеется, как о правах равноправных членов общины), о свободе[485], демократии, частной собственности. В полисе граждане и государство не противостоят друг другу. По существу, граждане и есть государство[486]. Античный период – период необычайного расцвета культуры и экономики в истории аграрных обществ. Лишь к XII–XIII вв. н. э. Западная Европа по душевому валовому внутреннему продукту достигает уровня античности[487].
Сами военные успехи греков в противостоянии с расположенной вблизи их территории могучей империей укоренили в средиземноморском мире убеждение в превосходстве демократических режимов, где властвует закон, должностные лица избираются, а народные собрания созываются регулярно[488]. Пример полисной демократии оказывает серьезное влияние на социальную организацию в сообществах с другой социально-экономической историей, не связанных ни с морской торговлей, ни с пиратством, служит образцом для подражания. Например, Спарта своей общественной организацией схожа с традиционными аграрными обществами, где есть специализирующаяся на насилии элита и крестьянское большинство – илоты. Соотношение спартанцев и илотов составляет примерно 1:7. Но и здесь под влиянием социального опыта других греческих полисов формируется необычная для аграрных сообществ структура – в правящей элите надолго сохраняются устойчивые демократические институты.
Римское общество по сравнению с классическим греческим полисом возникает в иных условиях. В истории раннего Рима нет широкого развития торговли и пиратства, которые дополняют сельскохозяйственную деятельность; римляне считают своих предков крестьянами. Это типичное крестьянское сообщество, находящееся на ранней стадии стратификации: в римских источниках мы находим упоминания о сенаторах, которые сами обрабатывают свои поля. Когда зарождалась римская государственность, этруски, латины, лигуры составляли тесно связанный мир центральной Италии VI–VII вв. до н. э. Все они находились под сильным влиянием контактов с греческим миром[489]. Пути институциональной эволюции городов‑государств здесь были сходными, и Рим отнюдь не был исключением[490]. В конце VII и VI вв. до н. э. сообщество латинян проходит через два взаимосвязанных процесса – урбанизацию и создание государства. Результатом этих процессов было возникновение города‑государства[491].
В период подъема, когда Рим доминировал на Средиземноморье, он представлял собой не традиционную аграрную деспотию, а самоуправляющийся полис. Это оказало определяющее влияние на дальнейшую эволюцию всех римских институтов. Здесь закрепляются важнейшие принципы организации античного мира – полис как сообщество крестьян-воинов, которые не платят прямых налогов, несут военную службу, участвуют в решении общественных проблем и судопроизводстве[492].
Своеобразная, порожденная особыми условиями Средиземноморья античная модель эволюции несла в себе элементы неустойчивости, предпосылки внутреннего кризиса. При низком технологическом уровне трудно веками сохранять ролевую функцию гражданина – крестьянина, воина и равноправного члена сообщества в одном лице. Это приводит к необычайно широкому для аграрных обществ распространению рабского труда. Соотношение рабов и свободных в античном мире многократно меньше соотношения зависимого крестьянского населения и административно-военной правящей элиты в традиционных аграрных государствах. Даже в Афинах – одном из ключевых центров античного мира – численность рабов современные исследователи оценивают примерно в треть населения[493], в то время как крестьяне аграрных империй численно превосходили привилегированную элиту примерно в 10 раз. Но распространение рабства, особенно использование рабского труда в сельском хозяйстве, формирует своеобразную античную идеологию: работа на другого человека, на хозяина, – это утрата свободы. Вот почему миру античности присуща черта, тесно связанная с самой природой его институтов, – жесткое различие между рабом и свободным человеком. В традиционных аграрных монархиях эти социальные статусы зачастую сближаются. Зависимый, обязанный платить подати крестьянин, как правило, принадлежит к той же этнической группе, что и его господин, даже сам владыка. Элита тоже не свободна, а обязана служить своему монарху. Высших чиновников часто называют рабами царя. В полисной демократии, в обществе свободных крестьян-воинов раб обычно принадлежит к иной этнической группе, и это отделяет его от граждан. На раба не распространяются права и свободы. Это привилегия членов общины, или, в более широком смысле, соплеменников, не варваров. Аристотель пишет: “Варвар и раб по природе своей понятия тождественные”[494]. В системе отношений традиционного аграрного общества продажа крестьянина допустима, но, как правило, вместе с землей, с которой связаны его обязанности по отношению к господину или к государству. Специфика античного рабства – массовая продажа рабов без земли.
До сих пор спорят, насколько распространение рабства задержало экономическое развитие и внедрение новых технологий. А. Смит считает очевидным сдерживающее влияние этого фактора на развитие античной экономики[495]. Впрочем, рабство было не единственным фактором, который расшатывал античную модель развития. Не меньшие проблемы связаны, как мы уже отмечали, с поддержанием слитности ролей “свободный крестьянин – воин – член общины”. Соседство сильного противника всегда представляло угрозу для античных институтов. Типичный пример – история Сиракуз, где постоянное давление Коринфа приводит к формированию тирании в древнегреческом понимании этого термина, т. е. общества, разделенного на правящую элиту и крестьянское население.
Пока войны были короткими и солдаты могли возвращаться домой к началу сельскохозяйственного сезона, возможность эффективно выполнять роли крестьянина и воина сохранялась. Обычно гоплит[496] нес с собой припасы, необходимые для пропитания в течение трех дней. Система хорошо организованного крестьянского ополчения была приспособлена для коротких битв, но не для длительной войны[497]. Но чем богаче становилась Греция, чем больше укреплялась ее военная мощь, тем длительнее и напряженнее были войны, которые она вела. Уже войны V–IV вв. до н. э. выявили внутренние противоречия между ограниченностью размеров поселения, совместимых с демократическим устройством, и численностью армии, необходимой для эффективных военных действий. Они ведутся уже не отдельными городами‑государствами, а их коалициями. Это очевидное противоречие с базовыми принципами функционирования независимого города‑государства[498]. Со времен Пелопоннесской войны возникает потребность в профессиональной армии[499].
Солдатам-профессионалам надо платить. Как совместить содержание профессионального войска с античным принципом обходиться без прямых налогов – труднейшая проблема в греческой истории. Афины пытаются решить ее, перекладывая все больше платежей на своих союзников[500]. Те рассматривают это как дань, как попытку лишить их свободы[501]. Дельфийская лига, сформировавшаяся первоначально как союз городов‑государств, добровольно объединившихся для совместных оборонительных и наступательных действий, в котором независимость его членов рассматривалась как очевидный, общепризнанный факт, со временем превращается в протоимперию[502].
Среди союзников вспыхивают восстания, что, в конце концов, и привело к поражению Афин в Пелопоннесской войне. В попытках Афин установить свою гегемонию в Греции явно видны те же тенденции, которые впоследствии были успешно реализованы Римом в его борьбе за доминирование в Италии. Различие состоит лишь в том, что Афинам попытка создать империю не удалась[503].
Численность армии, которую можно мобилизовать в городе‑государстве, ограничена его размерами. Сама природа полиса предполагает прямую демократию, совместное участие граждан в принятии решений. Платон в “Законах” утверждает, что идеальный полис должен включать 5040 полноправных граждан[504]. Аристотель указывает, что полис с населением больше 100 тыс. человек – это уже не полис. В “Политике” он пишет о том, что население и территория полиса должны быть легкообозримы[505].
Спарта была крупнейшим по территории греческим полисом площадью 8300 км2. Площадь Афин составляла 2800 км2. Большинство других полисов занимало площадь от 80 до 1300 км2. Афины были необычно большим полисом[506]. В большинстве городов‑государств численность свободных граждан мужчин находилась в диапазоне 2–10 тыс. человек[507].
Долгое время превосходство в организации военного дела, которое давала грекам фаланга гоплитов, и отсутствие сильных соседей компенсировали численную слабость полисной армии. Но это не могло длиться бесконечно. Во времена больших флотов и армий, которые содержались за счет дани или грабежа, суверенитет малых городов‑государств становится невозможным. А традиции партикуляризма в Греции были слишком сильны и препятствовали созданию устойчивых союзов между полисами.
468
Историческая статистика не дает надежных источников, позволяющих точно оценить долю населения греческого мира, связанного с сельским хозяйством. Большинство специалистов предполагает, что она составляла не менее 80 % (см.: Starr C. G. The Economic and Social Growth of Early Greece 800–500 B. C. New York: Oxford University Press, 1977. P. 41). По оценкам Р. Голдсмита, 75–80 % рабочей силы Римской империи было занято в сельском хозяйстве. Он же оценивает долю городского населения Римской империи в 10 % – показатель, высокий для аграрного общества (см.: Goldsmith R. W. An Estimate of the Size and Structure of the National Product of the Early Roman Empire // Income and Wealth. Series 30 (3). September 1984. P. 282, 283).
469
См.: Андреев Ю. В. История Древнего мира. Расцвет древних обществ. Греция в архаический период и создание классического греческого полиса / Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. Свенцицкой. М.: Главная редакция восточной литературы, 1982. С. 79. О радикальных переменах в использовании письменности, вызванных формированием античной цивилизации, см.: Петров М. К. Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. М.: РОССПЭН, 1995.
470
О том, как внешние угрозы и необходимость мобилизовать ресурсы для их отражения привели к подрыву демократии, укоренению тирании и введению прямых налогов в Сиракузах, см.: Finley M. I. The Ancient Greeks. London: Penguin Books, 1991. P. 140.
471
В Афинах прямые налоги платили только проститутки и иностранцы (см.: col1_0 The Roman Economy. Studies in Ancient Economy and Administrative History. Oxford: Basil Blackwell, 1974. P. 153, 155, 156).
472
Brunt P. A. Social Conflicts in the Roman Republic. New York: W. W. Norton & Company Inc., 1971. P. 107–110.
473
Об изъятии оружия у народа и прямых налогах как характерной черте тирании см.: Аристотель. Со ч.: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 553. “В виды тирана входит также разорять своих подданных, чтобы, с одной стороны, иметь возможность содержать свою охрану и чтобы, с другой стороны, подданные, занятые ежедневными заботами, не имели досуга составлять против него заговоры… Сюда же относится и уплата податей, вроде того, как она была установлена в Сиракузах, где, как оказалось, в течение пяти лет в правление Дионисия вся собственность подданных ушла на уплату податей” (см.: Там же. С. 560).
474
“…Еще одна характерная особенность гражданской общины – совпадение более или менее полное политической и военной организации полиса… Характер военной организации как гаранта собственности и тем самым самого существования общины определяет не только связь, но в принципе и однозначность военного ополчения граждан с народным собранием как основой политической организации полиса. Гражданин-собственник одновременно является и воином, обеспечивающим неприкосновенность собственности полиса и тем самым своей личной собственности. Армия полиса в принципе являлась всенародным ополчением, служить в котором было долгом и привилегией гражданина. Общая структура полиса и формы его военной организации развивались в теснейшей связи друг с другом…
В сущности, в это время народное ополчение представляло собой вооруженное народное собрание. Строй фаланги самим способом сражения, когда воин прикрывал щитом себя и соседа, а победа обеспечивалась только монолитностью строя, способствовал выработке чувства полисного единства. Фаланга была не только военным строем, не только проекцией в военную сферу социальной структуры полиса, но и социально-психологическим фактором огромного значения. И не случайно в теоретических построениях афинских идеологов времени кризиса полиса «счастливое прошлое» представало в облике «мужей-марафономахов», мужественных воинов‑гоплитов и суровых афинских крестьян” (см.: Античная Греция. Т. 1: Становление и развитие полиса. М.: Наука, 1983. С. 24, 25).
475
См.: Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. М.: Государственное военное изд-во, 1936. P. 73–76.
476
Возникновение фаланги обычно относят к середине VII в. до н. э (см.: Нефедкин А. К. Основные этапы формирования фаланги гоплитов: Военный аспект проблемы // Вестник древней истории. 2002. № 1. С. 90–96).
477
О влиянии широкого применения железа в военном деле на демократизацию войны и возможность формировать армии крестьян-ополченцев, а также в связи с этим на развитие политического процесса в античности см.: Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. Л.: Изд-во ЛГУ. 1988. С. 116–118. “Трансформация греческого города‑государства Афин из монархии в олигархию и из олигархии в демократию была следствием изменения военной технологии – развития фаланги, которую могла выставить лишь армия граждан; цена, которую заплатили за это правители, – ограничение их власти” (см.: North D. C. Structure and Change in Economic History. New York; London: W. W. Norton & Company, 1981. P. 30). О роли фаланги в развитии полисной демократии см.: Detienne M. La phalange: Problèmes et Controversies. Problèmes de la Guerre en Grèce Ancienne, 1968. P. 138; Starr C. G. The Economic and Social Growth of Early Greece 800–500 B. C. New York: Oxford University Press, 1977. P. 33.
478
В чрезвычайных условиях применялся 1–2 %-й налог на имущество, который нельзя было продавать откупщикам (см.: Jones A. H. M. The Roman Economy. Studies in Ancient Economic and Administrative History. Oxford: Basil Blackwell, 1974. P. 161).
479
Реформы Солона, предоставившие каждому (с определенными оговорками) право при отсутствии наследников завещать имущество по своему усмотрению, были важным шагом к укоренению в античности полноценной частной собственности на землю. По словам Плутарха, реформы Солона, разрешившие свободное распоряжение землей, “превратили владение в собственность” (см.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. С. С. Аверинцев. М.: Наука, 1994. С. 105). (Солон (около 640 – около 559 гг. до н. э.) – афинский политический деятель, реформатор, поэт – Прим. ред.)
480
Угроза волнений под лозунгом прощения долгов и передела земли – постоянная тема греческой истории. В 335 году до н. э. была сформирована Коринфская лига для защиты от подобных беспорядков. Тогда же клятва граждан города Итана на Крите включала формулу, которая запрещала такие выступления (см.: Rostovtzeff M. The Social & Economic History of the Roman Empire. Oxford: Clarendon Press, 1926. P. 2).
481
См.: Аристотель. Политика. Афинская полития. М.: Мысль, 1997. С. 293, 294.
482
Шарль Луи де Монтескье (1689–1755) – французский писатель, правовед и философ, автор романа “Персидские письма”, а также статей в “Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел”.
483
См.: Монтескье Ш. Л. Персидские письма: Размышления о причинах величия и падения римлян. М.: Канон-пресс-Ц: Кучково Поле, 2002. С. 111.
484
То обстоятельство, что объектами изучения Маркса и Энгельса были именно европейские общества, привело их к представлению о необходимости имущественного расслоения для формирования государства и государственной иерархии (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. Т. 21. М.: Госполитиздат, 1961).
485
В восточных языках трудно подобрать аналоги слова “свобода” в греческом его понимании.
486
Morris I. Burial and Ancient Society: The Rise of the Greek City-State. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
487
Объем морской торговли в Средиземноморье II в. н. э. был достигнут лишь в середине 2‑го тысячелетия н. э.
488
Лурье С. Я. История Греции: Курс лекций. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. С. 205.
489
О влиянии Греции на эволюцию римских институтов см.: Heurgon J. The Rise of Rome to 264 B. C. London: B. T. Batsford Ltd., 1973. P. 43, 75–98; Frank T. (ed.). An Economic Survey of Ancient Rome. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1933. P. 3; Walbank F. W. The Hellenistic World. Sussex: The Harvester Press; New Jersey: Humanities Press, 1981. P. 228. О влиянии традиций греческого законодательства, в том числе законов Солона, на римское законодательство (Закон 12 таблиц) см.: Stein P. Roman Law in European History. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 34.
490
Bloch R. The Origins of Rome. New York: Frederick A. Praeger, Publishers, 1960. P. 15.
491
Cornell T. J. The City-States in Latium // Hansen M. H. (ed.). A Comparative Study of Thirty City-State Cultures. Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 2000. P. 211.
492
О сходстве, органическом единстве римского и греческого полиса см.: Удченко С. Политические учения Древнего Рима. М., 1977; Шпайерман Е. Древний Рим. Проблемы экономического развития. М., 1978.
493
Finley M. I. Ancient Slavery and Modern Ideology. London: Penguin Books, 1992. P. 80.
494
Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. C. 377.
495
См.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 1. М.: Соцэкгиз, 1931. С. 400.
496
Гоплит – древнегреческий тяжеловооруженный пеший воин.
497
Ferguson Y. Chiefdoms to City-States: The Greek Experience / Earle T. (ed.). Chiefdoms: Power, Economy and Ideology. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 186.
498
Davies J. K. Democracy and Classical Greece. Sussex: The Harvester Press; New Jersey: Humanities Press, 1978. P. 48, 49.
499
Античная цивилизация / Отв. ред. В. Д. Блаватский. М.: Наука, 1973. C. 68–69.
500
О нарастающих имперских тенденциях в отношении афинян к своим союзникам см.: Sealey R. A History of the Greek City States ca. 700–338 B. C. Berkley; Los Angeles; London: University of California Press, 1976. P. 304–308.
501
Bullock C. J. Politics, Finance and Consequences. Cambridge; Massachusetts: Harvard University Press, 1939. P. 111.
502
Rhodes P. J. The Athenian Empire. Oxford: Clarendon Press, 1985. P. 22–28.
503
Davies J. K. Democracy and Classical Greece. Sussex: The Harvester Press; New Jersey: Humanities Press, 1978. P. 76.
504
См.: Платон. Государство. Законы. Политика. М.: Мысль, 1998. С. 493.
505
См.: Аристотель. Со ч.: В 4 т. Т. 4. С. 598.
506
Исследователи до сих пор спорят о численности населения в крупнейшем греческом полисе – Афинах. Однако большинство сходится в том, что с учетом рабов она вряд ли превышала 250–270 тыс. человек (см.: Gomme A. W. The Population of Athens in the Fifth and Fourth Centuries B. C. Westport, Connecticut: Greenwood Press, Publisher, 1986. P. 4–6; Finley M. I. The Ancient Greeks. London: Penguin Books, 1991. P. 72).
507
Ferguson Y. Chiefdoms to City-States: The Greek Experience // Earle T. (ed.). Chiefdoms: Power, Economy, and Ideology. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 178.