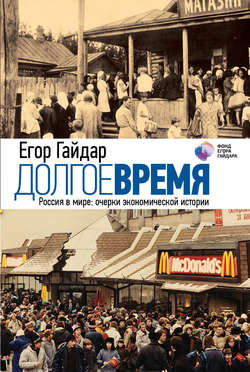Читать книгу Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории - Егор Гайдар - Страница 25
Раздел II
Аграрные общества и капитализм
Глава 4
Традиционное аграрное общество
§ 4. Эволюция неупорядоченного изъятия ресурсов в налоговые системы
ОглавлениеДля функционирования аграрного общества важно, как группы, специализирующиеся на насилии, организуют и осуществляют изъятие ресурсов крестьянского населения. Самая тяжелая ситуация складывается, когда территория, на которой происходят поборы, не закреплена за определенной структурой. В этом случае у тех, кто может обирать крестьян, нет стимула что-то оставить им для выживания.
И отбирают все. Когда крах организованного государства открывает путь подобному стихийному насилию, происходит массовое разорение и уничтожение крестьянства, подрывается и рушится налоговая база. Неопределенность права изымать то, что Маркс называл прибавочным продуктом, подрывает государственность; в мире аграрных цивилизаций такие режимы скорее исключение, чем правило.
В стабильных аграрных обществах действует порядок, который М. Олсон называл “системой стационарного бандитизма”: четко определено, кто имеет право и возможность выжать из крестьянского населения максимум ресурсов, сохраняя при этом возможность для последующих изъятий[306]. По М. Олсону, это “вторая невидимая рука” – режим, способный для спасения экономики потеснить неупорядоченный бандитизм.
Если отбросить детали, характерные для аграрных цивилизаций, системы регулярного изъятия прибавочного продукта у крестьянских хозяйств можно подразделить на две группы. Первая в силу европоцентризма исторической науки получила название “феодализм”[307], вторая – “централизованная империя”.
Появление тяжеловооруженной конницы, потребовавшей значительных расходов на вооружение и содержание рыцарей, а также децентрализация насилия, связанная в первую очередь с норманнскими набегами в Европе, положили основу формированию здесь классической системы характерных для аграрного общества феодальных отношений[308]. Однако феодализм вовсе не европейское изобретение. Подобного рода структуры в аграрных обществах регулярно возникают при ослаблении центральной власти, ее неэффективности. Примеры институтов, которые формируют сходные с европейскими своды этических норм, мы находим в Китае эпохи троецарствия[309], в Японии во времена правления клана Фудзивара[310], во многих других аграрных цивилизациях.
Как справедливо отмечал Дж. Хикс, отношения “лорд – слуга” – важнейший элемент всей структуры аграрных цивилизаций[311]. Преимущество этой системы в ее простоте, не требующей сложной организации и администрирования, превосходящих возможности аграрных обществ. Крестьяне и господа живут рядом. При угрозе нападения замок господина – место, где крестьяне могут укрыться. Укоренившиеся на протяжении поколений связи воспринимаются как естественное положение вещей, приобретают силу традиции, становятся легитимными.
В отношениях “господин – слуга” всегда есть элемент сделки и торга. В условиях хаоса и норманнских набегов VIII–X вв. крестьянину нужен лорд-защитник с его замком. Но в эти отношения заложено заведомое неравенство. Господин при желании может отнять у крестьянина все, что посчитает нужным. Когда торговая составляющая в сделке сюзерена и вассала оказывается недостаточной для сохранения норм присвоения прибавочного продукта, вступает в действие другой сценарий – прямое насилие и закрепощение крестьянина, как это происходило в Восточной Европе начиная с XV в.
Подобная организация насилия порождает в аграрном обществе две главные проблемы. Первая из них – децентрализация власти. По соседству с поместьем одного барона расположены владения другого. Кто-то из них сильнее. У сильного есть стимул прогнать “стационарного бандита” послабее, захватить подконтрольное ему имущество, подчинить себе крестьян, которые раньше были обязаны платить соседу. При слабости центральной власти, характерной для феодальной организации аграрного общества, естественный результат такого способа присвоения прибавочного продукта – череда набегов, грабежей, междоусобных войн и те же риски, что характерны для ситуации “мобильного бандитизма”: падение численности населения, бегство с земли, переход крестьян к бродяжничеству, разбою и грабежу, дезорганизация общества, снижение возможностей для мобилизации прибавочного продукта[312].
Другая проблема – слабость самого государства, института, который обеспечивает возможность применять координированное насилие по отношению к другим сообществам. Феодал в своем замке может отразить нападение шайки грабителей или соседнего барона. С иноплеменным войском, готовым вырезать местную элиту и занять ее место, он не справится. Отсутствие у феодальной власти эффективно действующего налогового аппарата и, как следствие, ограниченность ее финансовых ресурсов – причины ее внешней слабости по отношению к окружающему миру. Феодальная армия – это рыхлая коалиция войск, наскоро сколоченных феодалами разного уровня, а не слаженный, управляемый единой волей воинский организм. Вот почему сохраняется риск быть завоеванным извне, что неминуемо повлечет за собой опустошение деревни, массовые грабежи, разорение.
На выбор между централизованным или децентрализованным управлением аграрным государством влияет характер доминирующей военной угрозы. Там, где на первом месте стоит угроза децентрализованного внешнего насилия, например набеги морских разбойников на Западную Европу VIII–X вв., больше стимулов к организации децентрализованной защиты; опасность массированных вторжений степных кочевников, нависшая над Китаем, требует создания централизованного государства.
Альтернатива феодальному способу изъятия прибавочного продукта в условиях аграрных обществ – централизованная империя[313]. Функции сбора государственных доходов и военные функции, централизованное финансирование государственных потребностей, в первую очередь армии, в ней разделены[314]. Феодальные отношения “господин – слуга” здесь отходят на второй план. Существует единая централизованная бюрократия, забирающая у крестьян прибавочный продукт. Большая часть его идет на содержание армии, остальное – на гражданскую бюрократию и двор, иногда – на организацию помощи крестьянам в случае голода[315].
Иногда в централизованных аграрных империях армия формируется на основе всеобщей воинской повинности. Классический пример – организация военного дела в Китае во времена Ханьской и Танской[316] династий. Но это скорее исключение, чем правило. Для овладения воинскими навыками требуется время, совмещать земледельческий труд и службу в армии трудно. Подобная система малоэффективна. Поэтому, как правило, организация насилия строится на основе профессиональной армии, отделенной от крестьянского труда.
Чтобы налоговая служба была хорошо организована, необходима достоверная информация об уплаченных налогах и налогоплательщиках. Это невозможно без письменности. В иерархически организованных государствах с развитой налоговой системой быстро распространяется грамотность, в первую очередь среди государственных служащих.
Для длительного и эффективного функционирования централизованной империи требуется налаженный бюрократический аппарат с четко организованными процедурами рекрутирования чиновников, их продвижения по службе, контроля за ними. На этом основывалась многовековая устойчивость китайской аграрной цивилизации – и это при всех перипетиях, связанных с династическими циклами и агрессией извне[317]. В Японии, где, как отмечалось выше, с VII в. китайская модель управления была образцом для подражания, именно слабость централизованной бюрократии порождала тенденции к феодализации.
У налоговых систем аграрных государств много общих черт. Отличия определяются уровнем развития, технологическими возможностями. В XVI в. испанские завоеватели обнаружили в Мексике налоговую систему, предполагающую использование принудительного труда, схожую с существовавшей в Китае времен империи Хань.
Хранящийся в Берлине иероглифический папирус эпохи Второй династии свидетельствует, что каждый египетский крестьянин должен был указать свое место жительства, общину, к которой он приписан и где он может быть в случае надобности привлечен к исполнению государственных натуральных повинностей. В противном случае его имущество и семья попадают в руки фараона, который может распоряжаться ими, как и им самим, по своему усмотрению[318].
Для налогообложения в аграрных цивилизациях характерно сочетание в различных пропорциях подушевого и поземельного налогов. Такие налоговые системы диктуют необходимость регулярно проводить перепись налогоплательщиков[319], требуют круговой поруки – солидарной ответственности сельского сообщества за уплату налогов. Налоговой администрации централизованных империй аграрного периода трудно дойти до крестьянского двора. Удобнее иметь дело с сообществами, объединенными общей ответственностью за уплату налогов[320]. По дошедшим до нас источникам в Китае такая система впервые возникает во времена Шан Яна[321]. Вероятно, именно ее эффективность обусловила победу государства Лу[322] в борьбе за гегемонию в Китае. Впоследствии основанная на круговой поруке система получает широкое распространение и в других аграрных цивилизациях.
В Египте, Междуречье, Китае, Японии, Индии переписи населения, земельной собственности, продуктивности вели чиновники. Цензы и кадастры позволяли устанавливать налоговые обязательства для сельского поселения. Связь изобретения письменности в Междуречье с организацией упорядоченного налогообложения хорошо известна историкам.
В условиях аграрных обществ обязательства по прямым налогам, как правило, не могут быть четко фиксированными. Само право представителей центральной администрации или феодального господина определять размеры крестьянских обязательств – фактор неопределенности в положении земледельца, его зависимости от произвола. А. Смит отмечает, что не только сами размеры налога, но и то, как он взимается, насколько плательщик оказывается во власти налоговой администрации, делают прямое налогообложение препятствием эффективной организации экономики[323]. Централизованная бюрократия позволяет избавиться от проблем, порождаемых междоусобными войнами, содержать постоянное войско, способное защитить страну от внешней угрозы. Отсюда характерные для периода аграрных цивилизаций представления о благотворности единого централизованного государства, об угрозах, связанных с феодализацией и междоусобицами. Именно централизованную империю принято считать идеальной моделью государственного устройства для аграрных обществ.
На протяжении двух тысячелетий, предшествовавших началу современного экономического роста, Китай по численности населения, объему экономической деятельности либо занимал место лидера, либо входил в число двух-трех ведущих по этим показателям мировых держав. Еще в XVIII в. многие европейские мыслители рассматривали его как образец для подражания в организации общества[324]. Характерные черты китайской модели – охватывающая всю страну централизованная бюрократия и меритократическая система, открывавшая при успешной сдаче экзаменов возможность войти в элиту, снижавшая роль происхождения, повышавшая социальную мобильность – способствовали ее долгосрочной устойчивости.
Важная особенность Китая, которая позволила сохранить на протяжении тысячелетий централизованное государство, – специфика китайской письменности. Когда изобретенный в Передней Азии алфавит достиг Поднебесной, иероглифическая система уже крепко укоренилась в структурах китайской цивилизации. Специфика иероглифики – отделение письма от устного языка – позволяет связать единой культурной и бюрократической традицией говорящие на разных диалектах народы, представители которых нередко не способны понять друг друга при устном общении. Нивелировавшая этнические различия китайская письменность стала важнейшим инструментом объединения страны в единое культурное целое.
Построенное на алфавите письмо, которое воспроизводит устную речь, объективно закрепляет этнические различия, облегчает формирование наций, препятствует сохранению единой империи. История Западной Европы после краха Западной Римской империи, расходящиеся траектории развития ее и Китая после заката империи Хань убедительно подтверждают роль письменности в судьбах государств[325].
306
Olson М. Power and Prosperity: Outgrowing Communism and Capitalist Dictatorships. New York: Basic books, 2000. P. 12, 13.
307
Термин “феодализм” появился сравнительно поздно. Современникам Вильгельма Завоевателя он не сказал бы ничего. Это изобретение мыслителей XVIII в., пытавшихся осмыслить социально-политическую структуру, сложившуюся в Европе в первые века после краха Римской империи (см.: Coulborn R. (ed.). Feudalism in History. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1956. P. 3–7). Ф. Бродель пишет: “Могу ли я сразу же и до того, как двигаться далее, сказать, что я испытываю к столь часто употребляемому слову феодализм такую же аллергию, какую испытывали Марк Блок и Люсьен Февр? Этот неологизм, ведущий свое происхождение из вульгарной латыни (feodum – феод), для них, как и для меня, относится лишь к ленному владению и к тому, что от него зависит, – и ничего более. Помещать все общество Европы с XI по XV в. под этой вокабулой не более логично, чем обозначать словом капитализм всю совокупность этого же общества между XVI и XX вв. Но оставим этот спор. Согласимся даже, что так называемое феодальное общество – еще одна расхожая формула – могло бы обозначать большой этап социальной истории Европы” (см.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв. Т. 2: Игры обмена. М.: Прогресс, 1988. С. 466).
308
Ф. Энгельс, экстраполировавший в глубину истории европейские реалии XVII–XVIII вв., писал, что отделение крестьян от земли должно было стать предпосылкой феодализации. На деле события развивались иначе. После периода переселения народов быстро выясняется, что осевшим на землю переселенцам не удается сохранить одновременно функции крестьянина и воина. Начинается массовый переход под покровительство феодала, обмен собственных прав и привилегий на предоставляемую господином защиту.
309
Эпоха троецарствия в Китае продолжалась с 220 по 280 г. (после правления династии Хань) и вошла в историю как период междоусобиц и борьбы между тремя государствами Китая Вэй, У и Шу. В 280 г. новой династии Цзинь (265–420) удалось объединить на некоторое время весь Китай.
310
Фудзивара – могущественный придворный клан регентов в Японии в период Хейан (794–1185).
311
Hicks J. A Theory of Economic History. London; Oxford; New-York: Oxford University Press, 1969. P. 101, 102.
312
Р. Грабовски полемизирует с Д. Нортом, доказывавшим экономическую эффективность системы отношений “лорд – слуга” в условиях средневековой Европы. Он убедительно показывает, какие преграды создают такие отношения для повышения эффективности сельского хозяйства (см.: Grabowski R. Economic Development and Feudalism // The Journal of Developing Areas. Vol. 25. № 2. January 1991. P. 179–196).
313
Империя Хаммурапи – первый дошедший до нас в документированных источниках пример хорошо организованной централизованной бюрократии, позволяющей мобилизовывать ресурсы для снабжения армии. История дает примеры совмещения двух моделей – централизованной империи и феодальной организации. Например, в Китае Ханьской династии центральные районы находятся под управлением имперской бюрократии. В отдаленных районах, которые трудно контролировать, действуют феодальные структуры.
314
Дарий, реструктурировавший систему управления Персидской империей, не только вводит упорядоченную централизованную систему налогообложения, но и отделяет гражданскую службу (сатрапов) от военной организации.
315
По древнеиндийскому трактату о государственном управлении половину доходов следует тратить на армию, по одной двенадцатой – на дары, оплату чиновников низших рангов и оплату чиновников высших рангов, одну двадцатую – на личные расходы монарха, шестую часть направлять в резерв, расходуемый при чрезвычайных обстоятельствах (см.: Webber C., Wildavsky A. A History of Taxation and Expenditure in the Western World. New York: Simon and Schuster, 1986. P. 80).
316
Танская династия (618–907) – императорская династия, эпоха которой считается периодом наивысшего расцвета и могущества Китая, опережавшего в развитии все страны мира.
317
По мнению блестящего знатока истории Востока Н. Конрада: “Нелепо предполагать, что Конфуция в древности прельщал родовой строй. Его прельщала та предполагаемая устойчивость, стабильность всех общественных отношений, обеспеченная непререкаемой по своей внутренней правоте и истине, по своему авторитету для всего населения властью государя. Коротко говоря, Конфуций мечтал не о родовом строе, а о централизованном государстве с твердой верховной властью. Объективно его обращение к древности имело именно этот смысл. Идеал для Конфуция воплощался в облике мудрого монарха, твердо ведущего народ по пути мира и благополучия. Конфуций затратил немало усилий, чтобы такой облик создать” (см.: Конрад Н. И. Избр. труды. История. М., 1974. С. 65).
318
Вебер М. Аграрная история Древнего мира. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1923. С. 94.
319
“И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Вирсавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И сказал Иоав царю: Господь, Бог твой, да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидят это; но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло; и пошел Иоав с военачальниками от царя, считать народ Израильский” (см.: Библия. Ветхий Завет. Вторая книга Царств. Гл. 24. Ст. 2–4).
320
Введенная в Китае в 485 г. система налогового администрирования предполагала, что каждые пять соседних дворов образуют первичную административную единицу – соседскую общину; каждые пять соседских общин образуют среднюю административную единицу – деревенскую общину; каждые пять деревенских общин образуют самую крупную крестьянскую административную единицу – сельскую общину. Во главе каждой из этих трех административных единиц ставили старосту, в обязанности которого входило не только общее управление делами своей общины, но и наделение землей, а также сбор налогов и податей, наблюдение за нравами и т. д. Иными словами, этот аппарат выполнял и контрольно-полицейские функции (см.: Конрад Н. И. Избр. труды. История. С. 132). В Японии контроль за налогообложением и сбором налогов в деревне осуществлялся в пятидворках – низшей административной единице. Это была система круговой ответственности за уплату налогов. Кроме того, члены пятидворок были обязаны следить друг за другом, не допуская бегства крестьян из деревни (см.: Подпалова Г. И. Крестьянское петиционное движение в Японии во второй половине XVII – начале XVIII в. М.: Изд-во восточной литературы, 1960. С. 57, 58).
321
Шан Ян (390–338 до н. э.) – правитель области Шан, выдающийся государственный деятель, реформатор, мыслитель древнего Китая, один из основоположников легизма – учения о тоталитарном государстве, противоположного даосизму и конфуцианству.
322
Лу – древнекитайское государство эпохи Чжоу 11–3 в. до н. э.; родина Конфуция.
323
А. Смит о взимании налогов в развитой, по стандартам традиционного общества, аграрной Франции XVIII в.: “Пропорция, в которой эта сумма раскладывается между этими провинциями, изменяется из года в год в соответствии с отчетами, представляемыми королевскому совету о хорошем или плохом состоянии хлебов, также и о других обстоятельствах, которые могут увеличивать или уменьшать их платежеспособность. Каждый округ разделен на известное число участков, и разверстка между этими участками суммы, наложенной на весь округ, тоже изменяется из года в год в зависимости от отчетов, представляемых совету относительно платежеспособности каждого… Как утверждают, не только неведение и неправильная осведомленность, но и дружба, партийная вражда и личное неудовольствие часто ведут к неправильным действиям этих чиновников. Ни один человек, подлежащий налогу, никогда, очевидно, не может до получения раскладки точно знать, сколько ему придется уплатить. Он не может даже знать это и после получения раскладки… Подушные подати, если пытаются их устанавливать в соответствии с состоянием или доходом каждого плательщика, приобретают совершенно произвольный характер” (см.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 2. М.; Л.: Соцэкгиз, 1931. С. 447, 448, 462).
324
Восхищение Вольтера опытом Китая, его социальными институтами некоторые исследователи связывают с характерным для него отрицанием культурного превосходства христианских стран над нехристианскими (см.: Levenson J. R. Confucian China and Its Modern Fate. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1958. Р. XIV–XV).
325
О связи иероглифики с потребностями государственного управления и налогообложения в аграрных обществах см.: Петров М. К. Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. М.: РОССПЭН, 1995. С. 181.