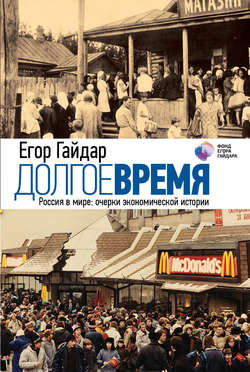Читать книгу Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории - Егор Гайдар - Страница 26
Раздел II
Аграрные общества и капитализм
Глава 4
Традиционное аграрное общество
§ 5. Династический цикл в аграрных обществах
ОглавлениеСтабильность аграрных обществ во многом зависит от того, насколько их организация отвечает интересам элиты. Это хорошо иллюстрируют и тенденции к наследованию высокого социального статуса, и такое явление, как династический цикл. Элиты аграрных обществ стремятся сделать свой статус наследственным. Мало того, что они принадлежат к присваивающему прибавочный продукт меньшинству, им нужно передать это социальное положение потомкам. Аграрные общества пронизаны тенденцией к приватизации власти. Получив высокие должности от верховных правителей, присвоив права на связанные с должностями доходы и привилегии, элиты добиваются последнего недостающего им права – передавать эти блага по наследству.
На этом основана логика династического цикла – одна из движущих сил аграрных обществ, едва ли не важнейший механизм их функционирования. После завоевания извне, крестьянских восстаний и краха прежнего режима создается новая центральная власть с присущим ей организованным финансовым администрированием. Она еще продолжает крепнуть, но в ее недрах назревают приватизационные процессы – земля и должности закрепляются за новой элитой. У государства сокращаются возможности собирать доходы и финансировать армию. Приходится увеличивать налогообложение там, куда могут дотянуться руки центрального правительства. Налоговый гнет нарастает. Вспыхивают крестьянские беспорядки. Затем – крах династии, порой новое завоевание извне. Династический цикл замкнулся.
Централизация власти, повышение эффективности бюрократии, жесткие репрессии против пытающейся своевольничать элиты – это начало цикла. Приватизация, уход налогоплательщиков под покровительство сильных людей, эрозия налоговой базы, сокращение доходов казны – характерные черты его завершающей фазы. Основатели династии, нередко иноэтничные завоеватели, иногда вожди крестьянского восстания, держат тех, кого они привели к кормушке, в жесткой узде[326]. При их потомках энергетика власти слабеет, должности становятся наследственными, доходы правительства сокращаются.
Характерное проявление приватизационных процессов в конце династического цикла – недовольство в обществе, вызываемое дифференциацией богатства и бедности и ростом роли денег: они становятся важнее положения на государственной службе[327]. Инициативным людям удается перераспределить в свою пользу доходы, которые предназначались для государственной казны[328]. В Китае начала XIX в., стране развитой аграрной цивилизации, реальные объемы налогообложения вчетверо превышали официально установленные ставки. Три четверти присваиваемого шло местному чиновничеству[329].
Финансовый кризис затрудняет содержание и армии, и центральной бюрократии. Крушение империи, новое иноэтничное завоевание или крестьянское восстание подводят черту под очередным династическим циклом. Таковы черты династического цикла – важнейшего механизма функционирования китайского государства на протяжении тысячелетий.
Другой пример, иллюстрирующий династический цикл в условиях аграрной цивилизации, – эволюция Египта времени Древнего царства. В середине этого периода гробницы номархов[330] становятся роскошнее, гробницы царей – скромнее. Затем – распад страны, хаос, упадок периода 10–12‑й династий. Потом – новая централизация власти. После формирования Среднего царства, при Сенусерте III, – исчезновение богатых гробниц номархов. История гробниц фараонов-номархов – история централизации и приватизации власти в Египте[331]. Папирус Ипувера, повествующий о бедствиях, связанных с ослаблением централизованного государства, хаосом и запустением, – один из первых документов, фиксирующих развертывание династического цикла в аграрных цивилизациях[332]. Степень государственного вмешательства в организацию хозяйственной жизни в крестьянском сообществе в аграрных цивилизациях неодинакова. В Древнем Египте государство ликвидировало общины, взяло организацию производственной деятельности на себя. В Индии на протяжении всей ее истории сохраняется мощная, обладающая значительной автономией община. Эти крайние случаи объединяет то, что основная цель правящей элиты – изъять максимально возможное количество прибавочного продукта, создаваемого в крестьянском хозяйстве. Различны лишь формы такого изъятия.
Еще одна проблема централизованных империй, пытавшихся регулировать объемы налоговых изъятий, – контроль за собственным аппаратом. В отличие от самого государства, налоговый чиновник не заинтересован в сохранении налоговой базы. Проконтролировать его работу при технологических возможностях, характерных для аграрных цивилизаций, сложно. Следствие – вымогательства, избыточное обложение, жалобы на произвол сборщиков налогов. “…Выгода государя в том, чтобы иметь заслуженных [подданных] и назначать их на должности, а выгода чиновников в том, чтобы, не имея способностей, распоряжаться делами; выгода государя в том, чтобы иметь заслуженных [подданных] и вознаграждать их; выгода чиновников в том, чтобы, не имея заслуг, быть богатыми и знатными; выгода государя в том, чтобы выдающиеся люди служили ему по своим способностям; выгода чиновников в том, чтобы использовать в личных целях своих друзей и сторонников. Поэтому территория государства все урезается, а частные дома все богатеют; государь падает все ниже, а крупные чиновники становятся все могущественнее. Таким образом, государь теряет силу, а чиновники завладевают государством”[333].
Еще раз подчеркнем: независимо от того, на какой стадии династического цикла находится империя, сложилась феодальная иерархия или нет, важнейшим для аграрной цивилизации остается вопрос об организованном изъятии у крестьянского населения ресурсов в пользу правящей, специализирующейся на войне и государственном управлении элиты[334]. Здесь централизованное имперское государство сталкивается с неприятной альтернативой. Когда оно изымает прибавочный продукт в объеме, меньшем максимально возможного, на содержание армии может не хватить средств. Появляется риск, что соседнее агрессивное государство или кочевые племена сломят сопротивление войск и захватят страну. Это приведет к смене элиты. Если, напротив, изъятия запредельны, несовместимы с возможностью воспроизводить крестьянские хозяйства, возникают другие опасности: эрозия налоговой базы, бегство крестьян с земли, рост бродяжничества и разбоя, крестьянские восстания[335]. Один из классических документов Древнего Китая содержит слова: “Народ голодает оттого, что власти берут слишком много налогов… Трудно управлять народом оттого, что власти слишком деятельны”[336].
Поиск хрупкого равновесия между этими рисками – когда у крестьян отбирают максимум возможного, но не доводят их до полного разорения – стержень экономической политики аграрных цивилизаций[337]. История донесла до нас полемику по этому вопросу, разные позиции в ней. Ближайший советник Токугава Иэясу Хонда Масанобу говорил, что “крестьянину надо оставлять столько зерна, чтобы он только не умер”[338]. Поднявший налоговое бремя до предела китайский император Ханьского периода У-ди осознавал опасность этого шага, предостерегая против дальнейшего роста налогов[339].
Количество прибавочного продукта, которое элита аграрных обществ изымала у крестьян, определялось спецификой сельскохозяйственного производства. Больше всего можно было изъять в районах высокопродуктивного земледелия – в долинах крупных рек, на орошаемых землях. По библейским свидетельствам, египетские крестьяне отдавали фараонам пятую часть урожая. Правители Индии при Маурьях забирали у своих подданных четверть. По некоторым источникам, в других местах изъятия достигали половины собранного урожая. На бедных, малопродуктивных, засушливых землях у крестьян отбирали меньше. История донесла до нас представление о правильной, “справедливой” норме изъятия – 10 % урожая, знаменитая десятина.
Крестьяне не спешили делиться информацией о собранном урожае с теми, кто его у них отбирал. Упомянутое выше равновесие, грань, за которой налогообложение становилось невозможным, государство вынуждено было искать испытанным методом проб и ошибок[340]. Именно потому, что крестьянству и элите так нелегко найти эту тонкую грань, пусть даже неустойчивое равновесие высоко ценится и закрепляется традициями. Если прежде налогообложение достигало определенного уровня и не приводило к катастрофическим последствиям, элита аграрного общества воспринимала это как аргумент в пользу сохранения объема изъятий, считая его посильным для крестьян. Даже в высокоразвитой Франции XVIII в. распределение налогового бремени по провинциям, распределение их обязательств по взносам в казну – тальи – происходило на основе оценки опыта предшествующих лет: легко или трудно собирались тогда налоги.
Как указывалось, для централизованных аграрных государств систематизация сведений о налоговых обязательствах и налоговых платежах подданных, о том, сколько удалось изъять в той или другой области и на деревне, – важнейшая функция гражданской власти. Такая информация становится базой для определения текущих налоговых обязательств. Медленные изменения численности населения и объема хозяйственной деятельности позволяют лишь изредка вносить коррективы. Не нужно считать, сколько крестьянин может заплатить сегодня. Важно знать, сколько брали в предшествующие годы, не подрывая доходной базы. Иногда в хорошо организованных аграрных империях при этом учитывались различия, связанные с урожайными и неурожайными годами.
В централизованных империях эти принципы воплощаются в налоговых переписях, закрепляющих сложившиеся размеры обязательств. В феодальных системах обязательства низшего сословия закрепляются традицией.
Устойчивые отношения зависимого крестьянского населения и правящей элиты в рамках централизованного государства или феодальной иерархии – залог жизни аграрного общества без социальных взрывов и потрясений. Недаром китайская народная мудрость гласит: “Не дай Бог жить в эпоху перемен”. Ей вторит европейское присловье “долгих лет жизни королю”. В аграрном обществе периоды стабильности без внешних и внутренних войн, времена упорядоченных обязательств крестьян перед властью, закрепленных либо налоговым аппаратом централизованной империи, либо традицией феодальных установлений, воспринимались потомками как золотой век.
Характерное проявление роли традиции в условиях аграрных обществ – трехполье с разделением крестьянских участков на полосы. Известно, что такая организация земледелия менее продуктивна, чем та, которая возможна при консолидации участков, обрабатываемых крестьянским хозяйством. Однако она и более надежна, в меньшей степени зависит от колебаний продуктивности. В условиях, когда урожая едва хватает, чтобы прокормить семью, выполнить неизбежные обязанности перед государством или феодалом, выбор в пользу надежности – разумная стратегия[341].
Перемены – это новые династии, войны, эксперименты с налогами, увеличивающие их бремя, феодальные смуты и новые господа, не связанные традициями, действующие методом проб и ошибок. При долгосрочной стабильности способов производства и его структуры, неизменных системе расселения, образе жизни и других важнейших составных частях социально-политической структуры устойчивые традиции – элемент социальной организации, который обеспечивает ее приемлемое функционирование.
Представления о том, что богатые крестьяне государству не нужны, что все, кроме необходимого для поддержания жизни, должно быть у них изъято, а если не изымается – это признак плохого управления, широко распространены в аграрных обществах. Вот что пишет Ф. Бернье о реалиях Индии XVII в.: “…Все живут в постоянном трепете перед этим сортом людей, особенно перед губернаторами: их боятся больше, чем раб своего господина. Поэтому жители обычно стараются казаться нищими, лишенными денег; соблюдают чрезвычайную простоту в одежде, жилище и обстановке, а еще более в еде и питье. Они нередко даже боятся слишком далеко заходить в торговле из опасения, что их будут считать богатыми и придумают какой-нибудь способ разорить их”[342]. Сама суть аграрной цивилизации не только не стимулирует инновации, повышающие эффективность экономики, но и препятствует им[343]. Когда крестьянская семья, используя новые технологии, повышает урожайность, это привлекает внимание налогового агента централизованной бюрократии, или феодального лорда, или “мобильного бандита” – они видят возможность изъять у крестьянина что-то еще. Понятно, каким должно быть отношение земледельца к сельскохозяйственным инновациям. Человеческое знание, мысль продолжают порождать новое. И неизвестные прежде технологии все-таки получают широкое распространение. Но в саму структуру аграрной цивилизации с ее хищнической элитой, которая стремится выжать из крестьянства все до последнего, встроены механизмы, тормозящие внедрение любых инноваций[344].
Как справедливо отмечает В. Бартольд: “Сравнение Китая с Западной Европой лучше всего показывает, что успехи техники сами по себе не вызывают прогресса общественной жизни. Из примера Китая видно, что можно знать порох и не создать сильной армии, знать компас и не создать мореплавания, знать книгопечатание и не создать общественного мнения”[345].
В какой степени в аграрных обществах крестьянин закреплен на своем наделе, зависит от обстоятельств, в первую очередь от качества земли. Если это редкий по своим качествам и дефицитный ресурс, нет нужды силой государственной власти закрепощать крестьянина – он сам никуда не денется[346]. Если кругом много удобных для возделывания земельных угодий, крестьянин может перебраться на свободные земли к другому господину. В этом случае логика организации стратифицированного аграрного общества стимулирует жесткие формы прикрепления крестьян к земле. Но и в том и в другом случае о частной собственности в современном смысле этого слова говорить трудно. Земля – и важнейший ресурс производства, средство существования, и база для разнообразных поборов в пользу привилегированной элиты.
326
Джу Юань Джань, пришедший к власти в Китае на гребне крестьянского восстания против монгольской династии в 1380 году, казнил 15 тыс. крупных феодалов. В 1390 году было перебито вдвое больше. В 1393-м – еще 15 тыс. В числе казненных оказались многие сподвижники Джу Юань Джаня, те, кому он был обязан своим возвышением. Источники повествуют, что сановники, направляясь во дворец, прощались с семьями, не надеясь вернуться. Фактически император снял весь верхний слой китайской феодальной знати. Оставшиеся в живых превращались в холопов, которые падали перед ним ниц, как рабы (см.: Конрад Н. И. Избр. труды. История. М.: Наука, 1974. С. 432).
327
Twitchett D., Loewe M. (eds.) The Cambridge History of China. V o l. 1: The China and Han Empires, 221 B. C. – A. D. 220. Cambridge; London; New York: Cambridge University Press, 1986. P. 625.
328
“Поскольку земля считалась государственной, постольку по закону ее нельзя было ни продавать, ни закладывать. Но следить за соблюдением этого закона призваны были местные чиновники, они часто были заинтересованы как раз в том, чтобы этот запрет не действовал. Но самым эффективным был, по-видимому, упоминаемый в указе 752 года способ захвата земли путем сокрытия от государственного контроля государственных дворов и дальнейшего присвоения крестьянских участков” (см.: Конрад Н. И. Избр. труды. История. С. 381).
329
См.: Меликсетов А. В. История Китая. М.: Изд-во МГУ, 1998. С. 280.
330
Номарх – правитель нома (области), наместник фараона в древнем Египте, возглавлявший административный аппарат, суд, войско нома, ведавший ирригацией и сбором налогов.
331
См.: Васильев Л. С. История Востока. Т. 1. М.: Высшая школа, 2003. C. 105, 106.
332
История Востока. Т. 1: Восток в древности / Под ред. Р. Б. Рыбакова. М.: Восточная литература РАН, 1997. С. 163–166. В одном из китайских текстов XIV в. н. э. династический цикл описывается так: “Мир должен объединиться, когда он разделен. И должен разъединиться, когда он объединен” (см.: Twitchett D., Loewe M. (eds.). The Cambridge History of China. Vol. 1. The China and Han Empires, 221 BC – AD 220. P. 357).
333
Хань Фэй. Древнекитайская философия / Сост. Ян Хин-Шун. Т. 2. М.: Мысль, 1973. С. 231.
334
Роль прибавочного продукта – объема ресурсов, который превышает необходимый для удовлетворения минимальных потребностей основной массы сельского населения, – хорошо понимали французские физиократы, жившие в эпоху, когда аграрное общество уже шло к закату. Тюрго пишет: “То, что труд земледельца извлекает из земли сверх необходимого для удовлетворения его разумных потребностей, образует единый фонд, которым пользуются все другие члены общества в обмен на свой труд” (см.: Тюрго А. Р. Размышления о создании и распределении богатств. Ценности и деньги. Юрьев: Типография К. Маттисена, 1905. С. 4).
335
О мотивах, побуждающих правящую элиту ограничивать масштабы налоговых изъятий, см., например: Boyle J. A. The Cambridge History of Iran. Vol. 5. The Saljuq and Mongol periods. Cambridge: Cambridge University Press, 1968. P. 494. О чрезмерном налоговом бремени, следствием которого становится бегство крестьян к сильному покровителю и дальнейшее снижение государственных доходов, см.: Elvin M. The Pattern of the Chinese Past. Stanford: Stanford University Press, 1973. P. 19, 20, 27, 28. В Китае позднего Ханьского периода число податного населения, платящего налоги казне, сокращается с 49,5 млн человек в середине II в. до 7,5 млн в середине III в. Целые общины переходят под покровительство “сильных домов” (см.: История Востока. Т. 1: Восток в древности / Под ред. Р. Б. Рыбакова. М.: Восточная литература РАН, 1997. С. 459). Об осознании государством рисков, связанных с переобложением крестьян в Древнем Египте, см. там же. Эдикты фараона Хармхаба (Harmhab) (18-я династия), направленные против избыточного изъятия ресурсов у крестьян, см.: Webber C., Wildavsky A. A History of Taxation and Expenditure in the Western World. New York: Simon and Schuster, 1986. P. 74, 75.
336
Дао Дэ Цзин. Древнекитайская философия / Сост. Ян Хин-Шун. Т. 1. М.: Мысль, 1972. С. 136, 137.
337
“Обычная дилемма для правителей аграрного государства: низкие налоги – бедное государство, высокие налоги – обнищание подданных” (см.: Webber C., Wildavsky A. A History of Taxation and Expenditure in the Western World. New York: Simon and Schuster, 1986. P. 76).
338
Лещенко Н. Ф. Япония в эпоху Токугава. М.: Институт востоковедения РАН, 1999. С. 67.
339
Twitchett D. (ed.). The Cambridge History of China. Vol.3. Sui and Tang China, 589–906. Cambridge; London; New York: Cambridge University Press, 1979. P. 166.
340
Сборщики налогов в Японии говорили: “Крестьянин – что мокрое полотенце: чем больше жмешь, тем больше выжимаешь” (см.: Подпалова Г. И. Крестьянское петиционное движение в Японии во второй половине XVII – начале XVIII в. М.: Изд-во восточной литературы, 1960. C. 98).
341
О стимулах к сохранению традиционного трехполья с разделением полей на полосы см.: Moon D. The Russian Peasantry 1600–1930: The World the Peasant Made. London; New York: Longman, 1999. P. 126–139.
342
Бернье Ф. История последних политических переворотов в государстве Великого Могола / Под ред. А. Пронина; пер. с фр. М.; Л.: Соцэкгиз, 1936. С. 201. Ф. Бернье – один из первых европейских наблюдателей, имевший возможность с позиции реалий европейского общества ХVII в. подробно наблюдать механизм функционирования традиционных аграрных цивилизаций. Пытаясь понять причины их отсталости по сравнению с Западной Европой, он связывает это с отсутствием частной собственности на землю, ведущим к стагнации экономического развития.
343
“Когда мы иной раз слышим о будто бы новых порядках в землевладении, то речь идет, несомненно, о новых порядках обложения повинностями” (см.: Вебер М. Аграрная история древнего мира. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1923. С. 106).
344
А. Смит пишет: “Налог с дохода (талья), как он до сих пор существует во Франции, может служить примером этой стрижки былых времен. Это налог с предполагаемого дохода арендатора, который исчисляется в соответствии с капиталом, вложенным им в свое хозяйство. Арендатор поэтому заинтересован представить себя малоимущим и, следовательно, затрачивать возможно меньше на обработку своего участка и совсем ничего не затрачивать на его улучшение. Если бы в руках французского крестьянина даже накоплялись какие-либо средства, «талья» почти равносильна полному запрету вложить их в землю. Помимо того налог этот считается обесчесчивающим того, кто подлежит ему, и ставящим его в более низкое положение сравнительно не только с дворянином, но и с мещанином, а всякий снимающий землю в аренду подлежит этому налогу. И ни один дворянин, ни один горожанин, обладающий капиталом, не захотят подвергнуться такому унижению” (см.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 1. М.; Л: Соцэкгиз, 1931. С. 405, 406).
345
Бартольд В. В. Культура мусульманства. М.: Леном, 1998. С. 106.
346
Недостаток пригодной для сельскохозяйственной обработки земли по отношению к численности аграрного населения – один из факторов отсутствия крепостничества в мусульманских странах. Проницательный исследователь истории Ближнего Востока В. Бартольд пишет: “Крепостного права, в смысле прикрепления крестьян к земле и ее владельцам, не было, по-видимому, ни в одной из мусульманских стран; никто не мешал земледельцам покидать возделывавшиеся ими участки, но никто не мешал и землевладельцам отнимать землю у одних крестьян и передавать ее другим, предлагавшим более высокую плату” (см.: Бартольд В. В. Культура мусульманства. С. 53).