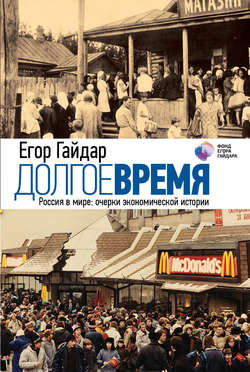Читать книгу Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории - Егор Гайдар - Страница 33
Раздел II
Аграрные общества и капитализм
Глава 6
Феномен античности
§ 2. Организация хозяйственной и социальной жизни греческих поселений
ОглавлениеОпыт соседних централизованных империй с их стратифицированным обществом, налоговым аппаратом, письменностью, с их специализирующимся на военном деле меньшинством не может не оказывать влияние на Средиземноморье. Первая крупная средиземноморская держава – Крит с центром в Кноссе, типичное аграрное государство со всеми его характерными чертами, но больше обычного вовлеченное в международную торговлю, концентрирующее оборонные усилия на борьбе с пиратством и развитии морского дела. Во времена его расцвета активность морских разбойников снижается – Критский мир обеспечивает расцвет торговли во всем Средиземноморском регионе[453]. Но если для аграрных государств специализация незначительного меньшинства на насилии, отделение крестьянской работы от воинского дела – закономерный порядок, к которому подталкивает сама логика организации производственного процесса, то для своеобразного мира Средиземноморья с его мобильностью, децентрализацией насилия, необычно широким распространением торговли такая организация общества оказывается тупиковой. Примерно за 14 столетий до н. э. господству критского флота в восточном Средиземноморье приходит конец.
Сами механизмы крушения Критского и построенного по его образцу Микенского царств из-за ограниченности достоверных источников изучены слабо. Но из классической греческой литературы известно, что после их краха и волны миграции, вызванной этим, на берегах Эгейского моря укореняется своеобразный тип общественной организации, для которой характерны ограниченная стратификация; объединение функций земледельца, воина, торговца и морского разбойника; отсутствие упорядоченной налоговой системы; организация общинной самообороны[454].
Уже в том виде, в котором греческие поселения возникают после “темных” веков, в ранний архаический период они являются полисами – городами‑государствами. Характерными чертами полиса были контроль над прилегающей территорией и наличие укрепленной крепости (само слово “полис” первоначально означало “крепость”)[455]. Греческие полисы объединили людей, которые а) занимают территорию, имеющую своим цент ром город, в котором находятся органы власти, обычно концентрирующиеся вокруг укрепленной крепости (акрополя), б) свободны в решении принципиальных вопросов организации собственной жизни[456].
Поселения, как правило, небольшие. Полис, насчитывающий 5 тыс. жителей, считается в это время крупной общиной. В греческих поселениях существует стратификация, в том числе и определяемая организацией военного дела. Гомеровская Греция – период боевых колесниц. Лучшие воины, владеющие этой военной техникой, составляют элиту полисов. Однако все доступные нам источники свидетельствуют: социальная дистанция, которая отделяет их от остальных членов общины, от пеших воинов, невелика – куда меньше той, что лежит между привилегированным меньшинством и крестьянской массой в традиционных аграрных государствах.
Гомер знает только одну форму человеческого общежития, которую он сам называет полисом[457]. Для Гомера “поле” вместе с его обитателями – это синоним первобытной дикости, крайней социальной разобщенности. Правильная, цивилизованная жизнь, в его понимании, возможна только в полисе[458]. В полисе суверенитет принадлежит народному собранию, т. е. общине полноправных граждан. Полис – прежде всего коллектив граждан. В олигархических государствах важна роль совета, но и там народному собранию принадлежало окончательное решение при обсуждении самых основных проблем (таких, например, как война и мир)[459].
При анализе специфики социальной эволюции Греции с начала гомеровского периода, создания предпосылок полисной демократии имеет смысл обратить внимание на социальные установления других народов со сходными специфическими чертами организации хозяйственного быта и социальной структуры. И сегодня хорошо известны морские полукочевники, в хозяйственной деятельности которых значительную роль играет рыболовство, иногда сочетающееся с торговлей и морским разбоем[460]. Но очевидная параллель здесь – Скандинавия в VII–XI вв. И в Греции гомеровского периода, и здесь население хорошо знакомо с производящим хозяйством, значительна роль скотоводства в производстве сельскохозяйственной продукции, ограничена роль земледелия, широко распространено рыболовство, морское дело[461]. Одинаков ландшафт: невысокие горы и изрезанное морское побережье, которые обеспечивают многочисленные места, удобные для пристани и защиты. Распространены морская торговля и морской разбой[462]. Отсюда и сходство социальной структуры: лишь формирующееся государство, отсутствие упорядоченного налогообложения и государственного аппарата, дары как способ обеспечения протогосударственных функций[463], значительная роль народного собрания способных носить оружие воинов в решении вопросов организации жизни общества, войны и мира, выбора предводителей[464]. В мире викингов, как и в античной Греции, преобладающим сословием было сообщество свободных крестьян – воинов[465].
Такие параллели принять непросто. Слишком велика дистанция между IX–VII вв. до н. э. и VII–XI вв. н. э. Но если смотреть на происходящее не с точки зрения физического времени, а учитывать уровень развития, т. е. применять к аграрным обществам те же методы социально-экономического анализа, которые мы используем для исследования современного экономического роста, ориентироваться на такие признаки уровня развития, как сочетание производящего хозяйства и отсутствия цивилизации, в частности письменности, использование таких аналогов отнюдь не антиисторично. При сходстве многих элементов организации хозяйственной жизни, социальной структуры греков гомеровского и архаического периодов и норманнских народов Северной Европы VII–X вв. отличие мира того времени, когда последние появляются на исторической авансцене, оказывает определяющее влияние на траектории их последующей социальной эволюции. В мире IX–VII вв. до н. э. в районах, близких к местам расселения греков, доминировали крупные аграрные централизованные государства. Специфика формы расселения, хозяйственной деятельности затрудняла копирование моделей организации общества, подталкивая греков к социальным инновациям. Греческий полис возникал как отрицание того, что сами греки называли восточным деспотизмом. Норманны вступают в процесс активного взаимодействия с другими регионами Европы в то время, когда здесь укореняются традиции децентрализованной феодальной организации.
Сами набеги норманнов, требовавшие децентрализованной организации защиты, – важный фактор такой эволюции. Одним из факторов, обусловившим более быструю по сравнению с Грецией эрозию традиционной военной демократии, характерной для сообществ морских полукочевников Скандинавии, стало радикальное отличие доминирующей военной техники этого периода по сравнению с греческой фалангой. В XI – XII вв. в Скандинавских государствах происходит переход от народного ополчения свободных крестьян-воинов к использованию тяжеловооруженной рыцарской конницы[466]. Отсюда эволюция социально-политической организации норманнов по характерному для Западной Европы пути феодализации, замены народного ополчения рыцарской конницей, превращение существовавшей ранее вайциллы – поставок припасов для пиров с участием короля – в регулярное налогообложение[467]. Традиции более раннего периода оказывают влияние на специфику формирующихся феодальных институтов. В Скандинавии нигде не было распространено крепостничество, большинство населения по-прежнему составляли крестьяне-землевладельцы, не существовало характерного для большей части континентальной Европы запрета крестьянам хранить и носить оружие.
453
“Как нам известно из предания, Минос первым из властителей построил флот и приобрел господство над большей частью нынешнего Эллинского моря. Он стал владыкой Кикладских островов и первым основателем колоний на большинстве из них и изгнал карийцев, поставил там правителями своих сыновей. Он же начал и истреблять морских разбойников, чтобы увеличить свои доходы, насколько это было в его силах. Ведь уже с древнего времени, когда морская торговля стала более оживленной, и эллины, и варвары на побережье и на островах обратились к морскому разбою. Возглавляли такие предприятия не лишенные средств люди, искавшие и собственную выгоду, и пропитание для неимущих. Они нападали на не защищенные стенами селения и грабили их, добывая этим большую часть средств к жизни, причем такое занятие вовсе не считалось тогда постыдным, но, напротив, даже славным делом” (см.: Фукидид. История. М.: Ладомир; АСТ, 1999. С. 6, 7). Характерный факт, демонстрирующий господство критского флота на Средиземном море в этот период, – отсутствие в Кноссе городских стен. Это всегда признак того, что жители чувствуют себя в безопасности, что они гарантированы от нападений с моря (см.: Лурье С. Я. История Греции: Курс лекций. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. С. 67).
454
“Полис является государством совершенно особого рода, ибо здесь нет власти и войска, отделенных от народа: народ сам есть и власть, и войско. Это община равноправных граждан, и эксплуатировать здесь можно только чужаков – в качестве рабов или илотов. Отсюда четкое противопоставление свободы и несвободы, нашедшее свое многообразное выражение в различных явлениях культуры и даже в лексике” (см.: История Востока. Т. 1: Восток в древности / Под ред. Р. Б. Рыбакова. М.: Восточная литература РАН, 1997. С. 24).
455
Sealey R. A History of the Greek City States ca. 700–338 B. C. Berkley; Los Angeles; London: University of California Press, 1976. P. 19.
456
Jeffery L. H. Archaic Greece. The City-States C. 700–500 B. C. London: Methuen & CO LTD, 1978. P. 39.
457
Meyer E. Geschichte des Altertums. Bd 2. Stuttgart, 1893. P. 335.
458
См.: Андреев Ю. В. Раннегреческий полис (гомеровский период). С. 41.
459
Античная Греция. Т. 1: Становление и развитие полиса / Отв. ред. Е. С. Голубцова. М.: Наука, 1983; Comparative Studies in Society and History. London, 1969. P. 50–52.
460
См.: Нойкирхен Х. Пираты. Морской разбой на всех морях. М.: Прогресс, 1980.
461
“Корабль – жилище скандинава”. Это выражение франкского поэта очень верно передает отношение норвежцев и датчан к своим кораблям. О широком распространении рыболовства в Скандинавии см.: Гуревич А. Я. Походы викингов. М., 1966. С. 37. О роли рыболовства в хозяйственной деятельности скандинавских народов как предпосылке их широкого вовлечения в морской разбой и морскую торговлю см. также: Архенгольц Ф. История морских разбойников Средиземного моря и океана. М.: Новелла, 1991. С. 306–307. Тацит писал о древних жителя Швеции: “Помимо воинов и оружия они сильны также флотом” (см.: Тацит К. Соч. Т. 1: Анналы. Малые произведения. М.: Ладомир, 1993. С. 371).
462
На старонорвежском слово “викинг” означает “пират” (см.: Graham-Campbell J. The Viking World. Frances Lincoln: Weidenfeld & Nicolson, 1980. P. 10). Пропорции сочетания пиратства и морской торговли объяснялись обстоятельствами, сравнительными преимуществами. Так, норвежцы и датчане в эпоху викингов, сочетая эти занятия, вместе с тем больший акцент делают на морском разбое, шведы – на морской торговле (см.: Lindsay J. The Normans and Their World. New York: St. Martin’s Press, 1975. С. 34–36).
463
Славою светлый Атрид, повелитель мужей Агамемнон! Хочешь ли мне дары примиренья, как должно, доставить Или удержать их, – ты властен… Гомер. Илиада. М., 2000. С. 357–369 (XIX, 40–237)
464
В Скандинавии в период викингов, как и в Греции античного периода, ключевым элементом системы власти было народное собрание (тинг) – регулярный сбор мужчин региона, обсуждавший и принимавший решения по важнейшим вопросам организации общественной жизни. Хотя в Скандинавии (кроме Исландии) существовали королевские династии и наследственные права имели значение, вступление в права нового правителя было обусловлено согласием тинга (см.: Graham-Campbell J. The Viking World. Frances Lincoln: Weidenfeld & Nicolson, 1980. P. 196). “Когда… в конце X в. представитель французского короля спросил датских викингов, отряд которых грабил Северную Францию, об имени их господина, они отвечали: «Нет над нами господина, ибо все мы равны»” (см.: Гуревич А. Я. Походы викингов. С. 26).
465
Jones G. A History of the Vikings. New York; Toronto: Oxford University Press, 1968. P. 154.
466
Carruthers B. G. Politics, Popery and Property: A Comment on North and Weingast // The Journal of Economic History. № 3. September 1990. P. 69–71.
467
В скандинавских памятниках можно обнаружить указания на стадию развития общества, когда бонды (свободные крестьяне-воины. – Е. Г.) не платили податей и их сознанию была чужда сама мысль об обязательных платежах в пользу короля. Дань взималась с покоренного населения, с тех, кому приходилось откупаться от викингов. Об эволюции в Скандинавии системы добровольных пожертвований для организации совместных пиров в упорядоченную систему налогообложения и ленных пожалований см.: Гуревич А. Я. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. М., 1967. С. 30, 31.