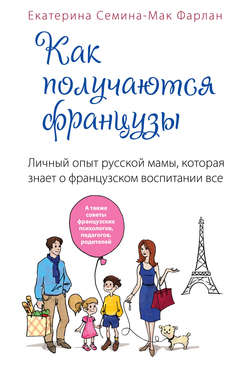Читать книгу Как получаются французы. Личный опыт русской мамы, которая знает о французском воспитании все - Екатерина Семина-Мак Фарлан - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Предисловие
ОглавлениеЯ была на шестом месяце, когда мне предложили новую работу. Нормальные женщины в это время уже начинают подумывать о декретном отпуске, но это было предложение, от которого невозможно было отказаться. И я отправилась поднимать самый лучший на свете журнал, который в тот момент почему-то пребывал в крайнем запустении. Было, конечно, непросто: коллеги смотрели на меня, мягко говоря, с удивлением, хоть я изо всех сил старалась «замаскироваться», чтобы никто не замечал моего положения (за два месяца до родов не заметить это довольно сложно, надо признать). В последние недели я уже не могла передвигаться по Москве и устраивала совещания и летучки у себя дома, стараясь спрятать под толстым свитером свой ходящий ходуном живот (до последнего дня Маруся брыкалась и лягалась – характер, однако…).
Вы, наверное, догадались, что на работу я вышла быстро – Марусе едва минуло полтора месяца. Я нашла хорошую няню (по крайней мере, мне хотелось так думать) – веселую украинку Наташу. Когда я позвонила в семью, где Наташа до этого работала, и спросила, можно ли ей доверить месячного ребенка, то услышала в ответ: «Месячного нельзя доверять никому!» Мамаше этой было лет 20, а мне уж ого-го… и мне стало стыдно.
И вот росла моя девочка (у старшей, Саши, была своя няня) под присмотром Наташи. Пока не вырос из нее, годам к двум с половиной, «Ураган Маруся». Стоило ей зайти в незнакомую комнату, она там мгновенно находила слабые места: не замурованную наглухо розетку, вазу, кошкин хвост или особо ценную орхидею. Нам с мужем постоянно приходилось оправдываться: «У нас две дочки: старшая – ангел, ну а младшая…» И все это продолжалось до одного ужасного дня…
В тот день мы поехали в гости к друзьям в Подмосковье. Дом Ани и Алеши полон чудесных вещей, привезенных со всех концов света. Маруся вела себя на удивление хорошо, и в нас затеплилась надежда, что день пройдет без катастроф… В конце обеда дети получили по «Мишке». Маруся запихнула конфету в рот, вылезла из-за стола и… старательно вытерла шоколадные «усы» и руки о штору из старинного тайского шелка!.. Это была последняя капля – что-то надо было делать, и немедленно.
Сначала я предложила мужу перестать ругать Марусю – все равно бесполезно, лучше хвалить, когда у нее что-то получается. Идея, может, и правильная, но, увы, поводов для похвал оказалось как-то маловато. Недостаточно было просто поменять наше отношение – надо было менять что-то в нашей жизни. И я решила уйти с работы.
Но, как вы помните, работала я в самом лучшем на свете журнале. И уйти из него было ой как нелегко. Я уговаривала шефа дать мне хотя бы пару месяцев за свой счет: я напирала на кризис, на то, что прекрасно смогу работать дистанционно, а издательство сэкономит на моей зарплате. Но Россия – это не Франция, и если уж ты занимаешь ответственный пост, то не видать тебе сокращенной рабочей недели и отпуска на все время школьных каникул. И начальник (кстати, начальница) поставил меня перед выбором: либо работа (ненормированный рабочий день, командировки и т. п.), либо… Что ж… горько расставаться с журналом, который нам действительно удалось поднять. Но семья важнее.
Мой муж Стефан – француз. И мы решили уехать на несколько месяцев во Францию. Надо сказать, что до этого у меня были серьезные разногласия с французской системой воспитания. Старшей дочке, Саше, было в тот момент 8 лет, и все эти годы продолжался международный конфликт под названием «Кто лучше знает?».
Начать хотя бы с невинного бизу. Сколько крови было пролито, сколько копий поломано! Вы не знаете, что это такое? Да вы видели это миллион раз, даже если среди ваших знакомых нет французов, – хотя бы в фильмах с Пьером Ришаром. Когда два представителя этой славной нации встречаются, они награждают друг друга ни к чему не обязывающими легкими поцелуями в щеку. Но мои дети большую часть жизни провели в Москве, а здесь не принято целовать незнакомых взрослых. В отличие от своих кузенов из Тулузы, Саша и Маруся, пока были совсем маленькие, не подставляли щечки каждому встречному. И это ужасно раздражало французских родственников. «Ты должна научить детей здороваться как полагается! У нас во Франции такие традиции, вы должны их уважать!» – выговаривали мне. «Но двухлетнему ребенку требуется время, чтобы привыкнуть целовать и “усатого господина”, и “толстую даму с красными губами”», – отбивалась я. Куда там!
Ситуация осложнялась еще и тем, что в разных регионах Франции целуются по-разному. Как рассказывал мне один учитель на пенсии, у него в Лотарингии при встрече целуют только самых близких родственников. Там даже в голову не придет поцеловать зятя или шурина. А на юге Франции – пожалуйста, сколько угодно. Кстати, сколько? В Париже, например, два раза. А в Бордо – четыре. А где-то – три. Есть даже такие специальные сайты, где веселые энтузиасты приглашают всех желающих голосовать – сколько раз целуются в вашем департаменте и с какой щеки начинают.
Но бизу – это так, анекдот. Представьте себе, какие баталии разворачивались, когда речь шла о серьезных вещах – о здоровье, например. Когда родилась Саша (в 2001 году), нас автоматически приписали к поликлинике Филатовской больницы. А муж настоял на том, чтобы мы вызвали еще и врача из Европейского медцентра. Тут я очутилась между двух огней. У Саши в первые месяцы были проблемы с пищеварением, и врач из Филатовской – в один голос с моей мамой – твердила, как это серьезно, что Сашу нужно госпитализировать. До этого, конечно, не дошло, но рентген двухмесячной крошке все-таки был сделан, не говоря уже о миллионе анализов и часах ожидания в очередях. А вот доктор из ЕМЦ оказалась куда оптимистичнее: «Мамаша, – говорила она, – не переживайте. Все придет в норму».
Когда Саше было четыре месяца, мы все вместе отправились во Францию. Вот это было феерично! С одного фланга – моя мама («И народ чужой, и фрукты немытые, и песок грязный!»), с другого – свекр («А почему вы ребенка не хотите в ресторан брать? Ну и что, что плачет? Поплачет и перестанет. Ну и что, что там курят? Покурят и перестанут».)
Мне, конечно, поначалу был ближе наш подход: мы ж в России росли (даже в СССР). Но потом самой стало странно. Вот поехали мы в Турцию, сидим на террасе в ресторане, ужинаем. Ребенок, которому девять месяцев и никаких пищеварительных проблем уже и в помине нет, помыт, накормлен и уложен в номере. У меня рядом с тарелкой стоит «радионяня», которая периодически (каждые девять минут, если быть точной) разражается детским плачем. Я срываюсь с места, несусь в номер, укачиваю Сашу и возвращаюсь к тарелке. Только съем кусочек – и опять двадцать пять!.. На мой третий порыв французский папа за соседним столиком говорит Стефану: какая она у вас самоотверженная! «Русская!» – с гордостью отвечает муж.
В тот момент, конечно, невозможно было представить что-либо иное (ну, или если только совсем отказаться от ужина и сидеть с Сашей в комнате). Но многолетний опыт тесного общения с французами заставил в конце концов засомневаться. Конечно, плачущего ребенка оставлять одного нельзя. Но наверняка в течение первых месяцев жизни Саши можно было сделать так, чтобы к девяти уже не было необходимости так ее опекать («Просто курица какая-то!» – сказал бы мой свекр).
Но вернемся к «Урагану Марусе». В тот год мы провели во Франции все лето и почти всю осень. Дети ходили во французскую школу. Французская система позволяет отдавать детей в école maternelle, когда им еще нет трех лет. Это не просто детский сад, а настоящая школа для маленьких, со своей программой, уроками, проверкой знаний и каникулами. Оценок тут, правда, не ставят – выдают только раз в триместр ведомость с пометками по разным предметам: «усвоил», «в процессе закрепления», «в процессе усвоения», «не усвоил».
Дети учились, играли с друзьями, посещали разные кружки и мероприятия. Я наблюдала за ними, сопровождая то в бассейн, то в музей, читала книги и смотрела передачи о воспитании. Мы все больше включались во французскую систему образования – и я стала находить в ней все больше плюсов.
Когда мы вернулись в Москву, Марусю было не узнать: милая, послушная, добрая девочка, с сильным, но веселым и легким характером. Теперь Марусе семь, учителя ее обожают, родственники (в том числе французские!) души не чают. Мы не можем нарадоваться: отличница, спортсменка, да еще к тому же и юмористка (я уже третью тетрадку исписала ее перлами). Так что на русской почве французские методы дали прекрасный эффект. Какие же они? Пора поделиться моими наблюдениями.
Разумеется, эта книга – результат не только моих наблюдений и личного опыта. Я опрашивала родителей, учителей, врачей, психологов, социологов и, конечно, детей во Франции и в Москве – всего получилось несколько десятков интервью. А еще я проштудировала немало книг и статей, посвященных воспитанию во Франции, прослушала и просмотрела массу радио– и телепередач, посещала веб-сайты. По моей просьбе группа психиатров и психотерапевтов организовала семинар на тему «Воспитание по-французски» (они как раз собрались на свою ежегодную конференцию в Бордо)… Словом, перед вами – некий синтез точек зрения, мнений, суждений, убеждений… Мне было безумно интересно работать над этой книгой. Надеюсь, вам будет так же интересно ее читать.