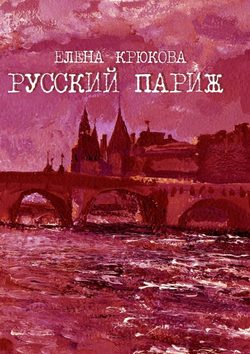Читать книгу Русский Париж - Елена Крюкова - Страница 6
Канкан
Глава четвертая
ОглавлениеДа, здесь остался нищ – и стар, и млад.
Россия – свищ. В нем потроха горят,
Просвечены рентгеном преисподним.
Мы кончены. Нас нет. Бьюсь об заклад:
Кто в белизне сгорит – уйдет свободным.
Анна Царева. «Memento Lutecia»
Парк Монсо. Нежные листья.
Зелень на просвет.
Облака несутся, сшибая друг друга, бодаясь как бараны: сильный, вольный ветер в небесах.
Люди идут парковыми дорожками. Каблуки врезаются в насыпь, в гравий, в мягкий песок.
Вот лавка, лавочка. Немного отдохнуть. Немного…
Люди садятся на скамьи. Откидываются. Спинами ощущают холодок выстуженного ветрами дерева.
Задирают голову. Облаками любуются. Закрывают глаза. Кормят крошками голубей. Солнце ласкает, нежит. Не замечают времени. Напевают. Целуются. Дремлют.
Тихо, стараясь гравием не скрипеть, подкрался к лавке, где уснула на солнце печальная худая женщина в старомодном берете, синелицый, чернобородый дервиш; осторожно обшарил сумку, нежно, неслышно взял за руку, повертел, медленно браслет разогнул. Снял.
Растаяли шаги в солнечном мареве.
Пели птицы. Неслышно бормотали под ветром листья.
Когда женщина проснулась – подумала: «Век я спала». Радостно воздух вдохнула: полной грудью. Взгляд на запястье перевела. Вместо Царской змеи – белая полоска.
Белая – на смуглой коже.
Не веря, руку к лицу поднесла. Глядела обреченно.
Слез не было. Лицо напекло солнцем.
«Устала. Как я устала».
*
Банковский кризис на Уолл-стрит. Он разразился. Его ждали.
Деньги не стоят ничего.
А раньше – чего стоили они?
Анна вспоминала ужасные, пошлые, заляпанные тысячью жирных пальцев, керенки-простыни с тремя нулями. Вспоминала, как в Берлине, подметя и без того чистую улочку, Семен приносил домой в горсти – мятые марки. Как в Праге, устроившись разносчиком молока, он приносил в карманах – хрустящие новенькие кроны. И лицо мужа и отца кривилось в счастливой, стыдливой, слезной улыбке.
Франки, чем вы отличаетесь от иного людского бумажного обмана?
Обман этот жизнью зовется. Какая насмешка.
Жилье – стоит денег. Еда – стоит. Жить дорого, очень дорого. Жить – не по средствам. Не по силам.
Париж затопила безработица. Люди метались по улицам в поисках любого су, любого завалящего сантима; а не найдя, выбрасывались из окон, с чердаков. Эйфелева башня, вот прекрасный инструмент для того, чтобы свести счеты с жизнью! Дамы удлинили юбки, обрядились в черное, в коричневое, в темно-синее: в знак европейской скорби.
А жизнь текла, как Сена. Как далекая Волга. Текла, холодная и равнодушная к людским страстям, к их великим войнам, к засаленным, с цифрами, нелепым бумажонкам.
*
Красный бархат падал и рушился; золотая лепнина взмывала и летела. Уступами, ступенями падали, вздымались валы – бельэтаж, амфитеатр, галерка. Волны партера прибывали, в волнах просверкивали нагие плечи, жемчужные ожерелья, брильянтовые колье, волнами колыхались изощренные, замысловатые прически дам, и жгучая чернота мужских смокингов говорила о черных замыслах, о суровой защите от желаний и соблазнов. Краснобархатный прибой; белый солнечный песок балконных, жарких скал. Это тоже Лазурный берег, и здесь тоже – аристократия. И здесь можно утонуть в роскошном, в бездонном море сиятельной публики. Сколько стоит билет в партер? Может, барону отдать стоимость, отработать?
Рауль беспомощно озирался. Глаза горели, а рот сам кривился в презрительной, надменной гримаске: юноша делал вид, что тут завсегдатай, а в Опере был первый раз. Вон, в ложе сидит черноволосая дама, в волосах – крохотная корона, усыпанная алмазной пылью; кто это? «О, сама Марья Федоровна пожаловала из Стокгольма! – согрел теплый шепот барона Раулево ухо. – Императрица в изгнаньи… сколько ж ей лет, бедняжечке, а все как девочка глядится!»
Оркестр грянул увертюру, и гомон в зале утих.
Музыка обняла, закружила.
Из зала на сцену глядели люди.
Девочка, худенькая, длинношеяя, открыла рот, впивая музыку всем тщедушным, недокормленным тельцем. Аля Гордон, гляди и внимай! Эта опера – для тебя, ведь она о Руси, о России.
Старуха выгибала узкую жилистую спину, чуть вздрагивали высохшие руки – сейчас птичьи лапы, а через миг – вольные птичьи крылья. Мадам Казимира, глядите, слушайте! Это ваша опера – года или века назад, вы забыли уже, сколько воды утекло, вы в этой опере танцевали, и вас обряжали в костюм прекрасной половчанки, и вертелись цветные шальвары, и нанизывались на веретено времени ваши великие фуэте.
Расширив глаза, глядела на сцену Ольга Хахульская, и дрожало горло от боли и страсти, от острой, всаженной под сердце иглы воспоминаний. Плачь, бывшая тангера! Не суждено на большую сцену вернуться! А может, еще суждено?
Игорь Конев, аргентинский бедовый мачо, русский скиталец по чужим землям и морям, и ты здесь! Все-таки купил билет на русскую оперу! А может, украл? А может, выменял на краденую в толпе бурлящего Чрева Парижа блесткую безделушку? Ты сидишь в последнем ряду партера, далеко от своей тангеры. Почему вы в разных концах зала? Потому, что вы поссорились, и ты ушел из дома! Бросил на прощанье: Париж большой, найду пристанище! И еще издевательски прошипел в маленькое розовое ушко: «Ты мне надоела!»
Что ж, люди надоедают друг другу. Так бывает в жизни. А Париж и правда большой. В Париже все утонет: и страх, и боль, и расставанье. Ты ушел и больше не вернешься? Никогда? Скатертью дорога!
«Скатертью дорога!» – крикнула Ольга вслед Игорю, а дверь хлопнула – села на пол, сгорбилась, лицо в ладони уронила. И так сидела: весь вечер, полночи, пока не замерзла сидеть на голом полу.
Барон наклонялся к уху Рауля, шептал, щекотал щетиной. Рауль, у барона пятеро детей, берегись, ты станешь шестым! А что беречься? Это в характере русских: подобрать, накормить, обогреть – и сделать своим, своим навсегда.
Княгиня Маргарита Федоровна Тарковская сидела в краснобархатном кресле, откинувшись на спинку, поднеся к глазам лорнет: она рассматривала знаменитого танцовщика, бешеного татарина. Прыгает выше всех! Летает по сцене не хуже орла в небесах! Уже забыла о мальчике с Юга, которому она дала тысячу франков на устройство в Париже. Не думала о нем: старость, туман в усталой голове! Думала о красавце-танцоре, летающем над досками сцены. Думала: сегодня принесли икону новгородского письма, и она ее купила – всего за сто франков, всего! Именно столько продавец запросил – нищий клошар, ночует под мостом Неф, икону, должно быть, украл, да разве это ее дело? Она спасла святыню. Бог вознаградит!
Старый художник Козлов глядел, жадно ловил прыжки свежих, юных балерин. Господи, будто в Мариинке сидит! В театре Саввы Меркурьева! Веера, аплодисменты, а на сцене – одни гении, не меньше! Сегодня его друг Шевардин поет. Не подкачай, дружище! Все врут, что у тебя плохо с кровью. Ты не исхудал! Ты еще ого-го как крепок! Волжский грузчик тебе не брат! Еще слона поднимешь, ежели пожелаешь! А голос твой громоподобный еще зал потрясет, поколеблет основы и своды!
А сзади за Кириллом Козловым сидели трое, и троица эта столь славной была, что все в зале на них оглядывались, их искали меж голов и нагих дамских плеч, на них указывали, о них шушукались. Жан-Пьер Картуш, Юкимару и Юмашев. Француз, японец и русский. Три короля Большого Света. Три модельера. Три художника: вытворяли чудеса, законодатели и мастера haute couture. Сидят, отдыхают, любуются спектаклем, хлопают в ладоши. Виктор Юмашев впервые ввел в моду на Западе русский сарафан. Юкимару не только творец блестящего стиля «маленькая гейша», но и создатель изумительных духов: за ними охотятся парижские модницы.
А Картуш? О, Картуш! Картуш вне конкуренции.
За Картушем все несут невидимый горностаевый шлейф!
Картуш – любовник мадам Шапель, так говорят.
Мало ли что говорят; разве все парижские сплетни можно слушать?
– Юки, гляди, как прелестно – женщина в шароварах!
– О да, Жан-Пьер. Одновременно и юбка, и брюки.
– Я бы хотел сделать половецкую коллекцию. Она произведет фурор. В моде Восток.
– Восток всегда в моде, Жан-Пьер.
От Юкимару пахло дорогим парфюмом. Картуш потянул носом, похлопал японца по обшлагу.
– Всегда-то всегда, но я взвинчу эту моду до предела.
– Воля твоя, Жан-Пьер.
Широкоскулое, цвета спелой тыквы, лицо Юкимару бесстрастно улыбалось.
– Ах ты, чертов Будда.
Картуш в ответ шлепнул японца ладонью по локтю. Юмашев глядел, хохотал беззвучно.
Скрипачи ударили по струнам, музыка развернулась ярким флагом. На сцену вышел князь Игорь. Голос певца заполнил зал, поднялся выше галерки, выплеснулся через край – на улицу, на волю. Господи, как поет Шевардин! Никому так не спеть!
Хакимов сделал широкий и высокий прыжок. Слепяще-красные шаровары мелькнули в снопе прожекторного света. Вспыхнула самоцветно, радужно рампа. Цветные лучи скрестились. Хакимов упал к ногам хана Кончака, нагло отогнул ему голову руками и впился поцелуем в ханские губы.
Зал засвистел, зааплодировал, возмущенно закричал, дамы зафыркали, захохотали. Великий танцовщик Войцех Хакимов любил не женщин, а мужчин. Что ж, вольному воля; таким он появился на свет, и, если Бог допускает рожденье подобных людей, зачем Он тогда спалил Содом и Гоморру?
За троицей знаменитых кутюрье сидела, кусала губы раскосая дама с высокой, как черная башня, прической, со слезкой крупной желтой жемчужины в яремной ямке. Бывшая жена Юкимару, Марико. По прозвищу Белая Тара. Они развелись еще в Токио, до переезда в Париж.
Шевардин еле стоял на ногах. Худоба его издалека бросалась в глаза. Богатый и густой грим не спасал лицо, уже похожее на череп. Изможденный, больной, сегодня пел все равно. Он пел бы и на смертном одре. Он там и будет петь. Так и уйдет к Господу Богу – поющим: исторгая звуки, разевая усталый, огромный рот с диким раструбом золотого горла.
– О, да-а-а-айте, дайте мне свобо-о-оду! Я мой позо-о-о-ор сумею искупить… я Ру-у-усь от недруга спасу-у-у-у!..
Юмашев забил в ладоши, громко крикнул:
– Бра-во!
Зал взорвался рукоплесканьями.
Тишина не успела настать. На весь зал раскатился выстрел.
– Боже мой, – громко сказала Аля и зажала рот рукой.
Игорь, сидевший рядом, стрельнул в нее глазами. Последний ряд партера! Выход рядом.
Публика повскакала с мест. Визг женщин разрезал уши.
Шевардин покачнулся. Удержался на ногах. Ярко-красные шаровары Хакимова растеклись атласной кровью по яично-желтым доскам. Хакимов странно, по-петушиному, как крыльями, вздернул обеими руками, сделал шаг вперед и резко, обреченно завалился назад. Упал. Громко, деревянно стукнулся затылком о доски.
Зрители кричали, вопили. Иные повскакали с мест, бежали к выходам. Искали выхода, рвали, терзали краснобархатные, алые, малиновые портьеры. Кровь! С потолка, из-под балкона стекала кровь. Хлестала вниз, на затылки и плечи, водопадом.
Игорь схватил Алю за руку.
– Слушайте. Времени нет. У меня револьвер. Меня поймают, обыщут… и обвинят. Меня посадят в тюрьму! Вы – русская! Спасите меня!
Шевардин на сцене тоже упал, бессильным, огромным тяжелым кулем, рядом с Хакимовым.
Народ визжал, ломился к выходам, дамы плакали в голос. Низкорослый мужчина хищно срывал пушистое горностаевое боа с плеч у пышнотелой мадам. Юмашев, Юкимару и Картуш холодно, по-буддийски спокойно наблюдали панику. Сидели в партере; не тронулись с места.
– Больше стрелять не будут, Виктор. Это дешевый террор. Кто-то очень хотел убить Хакимова.
– О да. Опера. Сцена. Убийство как спектакль. Понимаю.
Юмашев вытащил из кармана портсигар, вынул гаванскую сигару, зажигалку от Zippo, закурил. Он всегда курил сигары; любил крепчайший, острый табак.
Игорь схватил Алю за руку. Тащил за собой. Они оказались в людском водовороте близ узких, крашенных белилами, украшенных лепниной дверей выхода. Алю сжали, как в тисках, она задохнулась и закричала.
Игорь обнял ее за плечи, потянул, прижал к себе. Так, вдвоем, крепко обнявшись, как двое влюбленных, они пробирались сквозь визжащую, ополоумевшую толпу – мужчина и девочка.
Их вынесло на улицу на гребне людской волны.
Волна, прибой, море. Людское море.
Страшно людское море. Можно утонуть, не выплыть, – сказал Игорь, отдуваясь, вытирая со лба пот ладонью. Потом взял Алину руку – и ею, маленькой полудетской лапкой, вытер мокрый ее лоб.
– Мы как из моря. Плавали… и выбрались на берег.
«Шевардина тоже увезли в больницу?» – думала Аля, глядя в близкие, очень близкие глаза незнакомца. Русский! В Гранд Опера! И этот выстрел. Как мама не хотела, чтобы она сегодня шла в Оперу! Зато мадам Козельская – хотела. И эта контрамарка, бесплатная, пахнущая дорогими духами мадам. На бело-розовой плотной бумаге; на два лица. Аля была одно лицо, и она пошла. Отец и мама отказались. Ника еще очень маленький для спектакля.
– Идемте к нам домой, – Алин голос сбивался на рыданье. – Идемте скорей! Бежим! Выбросьте револьвер! А то вас поймают!
– Ну уж нет, – весело сказал Игорь. – Теперь-то не выброшу. Бежим! Ведите!
Взявшись за руки, они побежали.
За их спинами слышались крики, плач, ругательства. Люди топали как лошади. Аля чувствовала жар, исходящий от потрясенной, напуганной толпы. Толпа – чудовище. Революции и войны делают не люди – чудовища; она теперь знала это.
Когда в России делали революцию, она была еще малышка. Несмышленыш.
Дым смертного мороза за грязными окнами. Печь топи не топи, все холод. Дохнешь в комнате – пар изо рта, как у лошадей. У нее на руках – кроха-сестра, Леличка. Леличка умерла от голода в приюте. Анна сдала ее в приют, когда Аля заболела тифом. Аля умирала дома, а Леличка – в приюте. Когда Леличка еще жила дома, Аля привязывала ее за ногу к ножке кровати. Чтобы не мешала; чтобы не бегала везде и не разбила себе нос. Аля очень боялась, когда кровь из носа шла. Революция, кровь, красные флаги. Мама ходила на расстрел и осталась жива.
А сейчас в Гранд Опера расстреляли великого Хакимова; и он умер. Или жив, ранен?
От Гранд Опера, похожей на пышный разноцветный торт, они сломя голову добежали до метро. Нырнули под землю. Аля запыхалась. Игорь глядел на нее сверху вниз. Он был очень высокий, а она маленькая: не выросла, мама говорила, вырастет еще.
*
Игорь озирал дом, куда его привели. «Да, нищая квартирка. И так много людей! Голоса за стеной. Бедлам. Вавилон. Париж – Вавилон, а мы – вавилоняне; и грех на нас, и кара падет». Углом рта улыбался. Алино лицо потно, красно. Какая она вся мокрая под нарядным платьицем. Пот течет по шее, по лбу.
Ее мать им открыла, должно быть. Сухая. Надменная. Злая.
– Бон суар, господа. Аля! Познакомь с гостем.
Ни вопроса; ни гнева; ни любопытства. Будто бы масляную краску из тюбика, медленно выдавливает слова. Какие зеленые глаза! Чистая зелень. Ягоды крыжовника. Наглые, зеленые, соленые. Влажные, будто вот-вот взорвутся слезами.
– Мама… я… мы в Опере…
– Ты из Оперы кавалера привела?
Не голос – жесткий сухарь. Не разгрызешь.
– Мама, это не кавалер! Человек в беде! Я его…
– Ваша девочка меня спасла, – наклонил голову Игорь. В темных густых волосах давно пробежала белая искра. Он рано начал седеть. – В Гранд Опера прогремел выстрел. Стреляли в Хакимова. Кажется, попали. Мы убежали, я не знаю, что там произошло. Началась паника. У меня с собою револьвер, мадам. Меня могли арестовать. Клянусь, не я стрелял.
Улыбка опять искривила губы.
И рот этой мегеры покривился в улыбке: будто кривое зеркало отразило его лицо.
О да, чем-то они с грымзой похожи. Чуть с горбинкой носы. Седина в волосах. Жесткие черты красивых, породистых лиц.
Он стряхнул наважденье. Вся в морщинах баба. Не первой свежести осетрина. Еще чего, заглядываться на такую! Смех.
– Аля, переоденься, все платье испачкала. Анна.
Протянула сухую, твердую, как доска, руку. Пожал.
Ощутила тепло и власть. Насмешку. Осторожность: не раздавить бы хрупкие дамские косточки.
– Игорь. И опера, смею заметить, «Князь Игорь».
Сухо хохотнул. Зеленоглазая мымра сухо, натянуто улыбнулась бледными, лиловыми губами.
Аля уже хлопотала, нервно, услужливо собирала на стол. О, нищета! Стол-то газетами застелен. Вместо фарфоровых тарелок – жестяные миски. Хлеб девчонка режет – черный! На сдобу к чаю, уж верно, денег нет. Ба, тут и детская кроватка в уголку! Пустая. Где младенец? А, так тихо спит! Не проснулся от голосов, от света. Золотой ребенок!
– Садитесь, месье Игорь!
– Какой я месье!
Ему в тарелку каши наложили. Нос морщил, а ел: не обижать же хозяев! Анна, прищурясь, наблюдала, как Игорь ест. Изящно, отставив мизинец, все летает в руках: ложки, вилки. Хлеб красиво ломает в длинных, крепких смуглых пальцах. Стало тревожно, горько. Отчего? Не понимала.
Раздался стук в дверь. Анна глянула на часы с маятником, Лидия их из Москвы привезла, фирмы «Павелъ Буре»: о, уже двенадцатый час! Вечер поздний.
Она процокала каблучками к двери, Игорь одобрительно покосился на ее сухие, легкие ноги. «Дома ходит на каблучках, не в тапочках. Хвалю. Есть, есть в ней грация».
– Супруг прибыл, – мрачно бросила, вернувшись в гостиную. – Работает допоздна.
Правду сказать, она не знала, где он пропадал вечерами. Семен успокаивал ее, целуя в руку, в острое плечо: «В русском клубе, Анночка, такие дискуссии! Все спорят: кому мир достанется – Евразии или Америке?»
Игорь сжался, подобрался, как зверь перед прыжком. Спину выпрямил, выгнул. Глазами стрелял. Ложку в руке зажал. Каша, селедка. Репчатый лук Аля кольцами нарезала. Угощенье на славу. О, где ты, жареное на вертеле мясо аргентинских притонов, приморских таверн.
Семен вошел, опахивая всех сыростью, запахом тополиных почек – шел дождь.
– Так мокро, господа! Прямо питерская погодка! – Увидел за столом гостя, осекся, вспыхнул, как юноша. – Здравствуйте, с кем имею честь?
Игорь встал, поклонился. Даже каблуками щелкнул, по-военному.
– Игорь Конев.
– Семен Гордон.
Аля видела, как закусила губу мать. Отец ее никогда не ревновал, ни к одному ее мужчине. У нее в России, в Берлине и в Праге были романы, и, как Анна ни скрывала их от дочери, дочь – догадывалась. Владимир Иртеньев и князь Волконский в Москве. Михаил Волобуев в Коктебеле. Николай Крюковский в Петербурге. Андрей Быковский в Берлине. Гиацинт Бачурин и Берт Блюм в Праге. А поэт Эрих Мария Рейнеке, восторженный немец? А Глеб Погосян? А Розовский? А Букман? Юноши и старики. Князья и мужики. Стихоплеты и офицеры. Аля закрыла глаза. Стыд не дым, глаза не выест. Мама, мама, да ведь ты поэт, а поэт – он что? Он – свободен! Ветер!
И в любви – свободен.
Отец всегда это понимал. Все прощал. «Я бы не стерпела», – подумала Аля.
– Что тут у вас? – Семен потер ладони, шумно сел к столу. – О, селедочка! Аничка, неужели у нас нету выпить, ну хоть по чуть-чуть!
– Ничего, – отрезала Анна. – Если б было, я бы подала.
– А где Чекрыгины?
– Спят. Поздно уже.
– Мама, вы в Москве в это время никогда не спали! Вы всегда в двенадцать ночи или стихи писали, или гостей встречали!
Аля тут же пожалела, что сказала это. Лицо Анны сделалось жестким, бешеным, белым.
– Александра. Пошла вон.
– Мама, простите! – Аля уже плакала. – Куда я пойду? Чекрыгиных разбужу! Разве только на балкон! Он обвалится, он же такой маленький! А на улице – ливень!
Дождь хлестал по крыше. В комнате стоял шум, будто бы они все куда-то ехали в огромной, старой, тряской машине по булыжной мостовой.
Семен сжал руки над тарелкой овсянки и нервно хрустнул пальцами.
– Господа, о, господа! Ну что вы! А давайте в карты поиграем!
– В карты, в карты! – Аля хлюпнула носом, вытерла пятерней мокрое лицо. Ее густые косы развились, светлые пшеничные волосы прилипли к коричневому платью. «Одевает ребенка, будто монахиню, – подумал Игорь, – в черном теле держит. Она права! Иначе не выжить».
– Согласен, идея! Сто лет в карты не играл!
– Вы у нас ночевать останетесь, месье Конев? – вежливо спросил Семен. – Мы вам на полу постелим.
– Благодарствую.
Аля, вытирая рукавом заплаканное лицо, уже несла в руке колоду карт. Засаленную, пухлую. Карты слиплись – в них давно не играли. Бубновая дама прижимала к груди розу. Король пик хмурился мрачно. Семен видел: заблестели глаза незваного гостя, просверкнули зубы между красиво вырезанных, плотоядных губ в лукавой, быстрой усмешке.
Сдали карты. Каждый развернул перед собой карточный веер, уставился в россыпь судьбы. Ника закряхтел в кроватке, заворочался. Семен прижал палец к губам, вопросительно на Анну взглянул. Она холодно пожала плечами.
Проснется – покормлю, пока теплая каша. Ну-с, господа! У кого что? У меня – шестерка. В подкидного ведь играем?
– Ходите, мадам!
«Он называет меня „мадам“. Он нагл. Молод. Гораздо моложе меня. Он в сыновья мне годится». Анна закинула голову, раздула ноздри. В неярком свете грязного абажура тонко, иконописно светился ее четкий профиль.
«Похожа на рыцаря. На женщину не похожа. На принца Гамлета. Мужланка». Игорь постучал ногтями по рубашке своих карт.
Анна бросила перед Игорем на стол сразу две карты – среди неубранных мисок с недоеденной кашей, блюда с селедкой в прованском масле и оловянной миски с нарезанным кольцами луком лежали дама и король. Дама бубен и король пик.
– О, что ж это вы? С таких богатых карт начинать… Воля ваша! У вас, мадам, видно, на руках сплошные козыри! Господа, а на что играем? Мы не сделали ставки, господа!
Руки нервно, весело прыгали, дрожали, метались над столом: руки опытного ловкача, руки профессионала.
Семен глядел на руки Игоря. Аля уткнулась в свои карты. Анна хотела отвести взгляд от глаз Игоря – и не смогла.
– На деньги?
– У нас денег нет! – пропищала Аля.
– Брось, Аля, какое униженье. – Семен полез за лацкан пиджака, вытащил бумагу в пятьдесят франков, швырнул на газету, что вместо скатерти стол укрывала. – Никогда не унижайся!
Игорь в одной руке держал карты, другой ловко слазал в карман и положил рядом с купюрой Семена двухсотфранковую бумагу. Анна, расширив глаза, глядела на деньги. Двести франков! Сколько обедов дома. Пальтишко Нике, на самой дешевой распродаже! И башмаки, башмаки Семену, его совсем износились!
О себе не подумала ни мгновенья.
Опять ее глаза наткнулись на его глаза. Узкие, широко стоящие, масленые, быстрые. Зрачки обжигали ее, буравили. Густые ресницы дрожали. Он гладил, ласкал, обнимал ее глазами. А потом – внезапно – глаза вспыхивали злобой, насмешкой: презреньем, оплеухой, плевком.
«Он презирает меня… нас… за то, что мы – бедные! А он что, богач?! Что-то по нем не видать. Пиджачишко-то будто с чужого плеча! А если он вор?! Уж больно бегают, кричат его руки!»
Они кидали карты одну на другую. Лампа под абажуром мигнула раз, другой и погасла. Аля пошла на кухню, зажгла керосиновую лампу и внесла в комнату. Пахло керосином, пахло селедкой. Ну точно таверна в Буэнос-Айресе, весело думал Игорь. Руки сами ходили, летали. Руки делали свое, привычное дело.
Игорь покрыл брошенные Анной карты, и руки еле уловимо, незаметно дернулись. Карты сместились легко, воздушно, как в балете, как в танце. Никто ничего не увидел. Никто… ничего…
Рука Анны одним шлепком сложила карточный веер. Она ударила картами Игоря по руке.
– Месье! Вы шулер! Это подло!
Двести франков и пятьдесят, пятьдесят и двести.
Он шулер, и она выгонит его. В ночь. В непогоду. Под проливной дождь. Наплевать.
Он вскочил, под смуглотой проявилась бледность благородного возмущенья, тонкие усики задергались. Глаза-уклейки метались, пытались уплыть.
– Вы оскорбляете меня, мадам!
– Это вы оскорбили нас всех. Вон из моего дома! У нас не проходной двор!
«Сейчас он встанет и уйдет, и таким же нежным, лисьим движеньем заберет с собой деньги. Двести своих и пятьдесят наших. Пятьдесят. Неделя жизни в Париже. Неделя жизни. Подлец».
Она встала, крикнула Игорю глазами: «Подлец!» – и вышла из комнаты. Игорь слышал, как ее каблучки цокают по коридору на кухню. Цок-цок, цок-цок.
Встал из-за стола. Прошел в коридор, к вешалке. Нашарил шляпу. Аля бежала за ним следом, хватала его, как кошка когтями, за полы смокинга.
– Месье Игорь, Господи, куда же вы?! Туда же нельзя! Там же – потоп! О, извините, у меня мама – поэтесса… она такая вспыльчивая! Не обижайтесь на нее! Господи, час ночи ведь уже, где же вы заночуете?
Игорь взял ее лицо в обе руки. Подержал так немного. И у дочки такие же зеленые глаза. Скорее серо-зелено-синие. Как море. Дочки-матери. К черту.
– К черту, – сказал Игорь вслух, и Аля отшатнулась. – Дойду пешком до вокзала Сен-Лазар и там заночую. Вокзал, ма шер Аля, пристанище всех воров и бездомных бродяг. А также карточных шулеров. – Губы покривились в последней, надменной усмешке. – Не волнуйтесь обо мне. Я привык к лишеньям. Я скиталец.
– Мы все скитальцы! – жалко крикнула Аля.
Игорь наклонился, поцеловал ее руку, щекоча усами.
Когда за ним захлопнулась дверь и Аля вернулась в их каморку, она увидела – мать сидит за столом, глядит на две купюры, лежащие меж их нищих мисок. Пятьдесят франков и двести. Двести и пятьдесят.
Отец открыл дверь на балкон, стоял перед дверью, курил. Ливень шел серебряной стеной. В комнате стоял шум, как от самолетных лопастей. О чудо, Ника спал.
*
Игорь вышел из подъезда Анниного дома на улицу – и оглох от шума ливня.
Стоял под навесом. Ступить шаг – и вымокнуть вмиг до нитки. Легче в одежде прыгнуть в море.
Все-таки он шагнул вперед. Пошел под дождем, и скоро края шляпы повисли, как шляпка старого червивого гриба. Париж был пустынный и мокрый. Париж под водой. Размытые огни фонарей, плывущие мостовые. Он брел по тротуару, будто реку вброд переходил. Шел и смеялся.
Нет, какова! Рассердилась всерьез! А может, она с ним играла?
Шел и думал о себе рьяно, шало, горделиво: «Я красавец, я молод! Все женщины Парижа будут у моих ног! Я сделаю тут карьеру, сделаю! С краденым револьвером в кармане – сделаю! Я пробьюсь наверх! А эта несчастная, тощая как вобла, московская поэтка?! Да я ее… если захочу, в бараний рог согну!»
Тревога грызла потроха, ворочалась под ребрами. Откуда он ее знает? Помнит?
«На кого-то похожа… видел ее?.. знал… нет, бред…»
Оглянулся. Сквозь серую стену ливня еле просматривались высокие мрачные дома. Окна закрыты жалюзи. Ни огня. Ни души.
Адрес? Он не запомнил ни улицу, ни номер дома. Этаж под крышей. Почти чердак. А, вроде улица Руве. Рабочий черный, серый район. Много смога, трудно дышать. Дождь хотя бы прибьет пыль и гарь. Зачем ему адрес этой нищей семейки? Он сам здесь нищий. Пока! Завтра он будет богат и знаменит. Ему нищие больше не нужны.
Шагнул за угол, башмак заскользил, он растянулся на тротуаре. Милль дьябль, кажется, ногу вывихнул! Встал: больно, но идти можно. Сунул руку в карман. Револьвер на месте. Не выронил.
Сделал вперед еще шаг – и из влажного марева ливня на него надвинулись двое. Нет, трое! У двоих головы голые, третий в тюрбане. Черт! Мусульмане!
Серебряный дождь, черное лицо. Чернь и серебро. Толстогубый курчавый парень прыгнул, заломил ему за спиной руки. Игорь выдохнул ему в пахнущее чесноком лицо:
– Денег нет! Не трудитесь!
По-своему лопотали. Старик в тюрбане воткнул ему кулак под ребро, Игорь простонал, согнулся. Третий, совсем чернокожий, негр настоящий, быстро обшаривал карманы Игорева смокинга. Вытащил револьвер. Сдернул с головы Игоря обвисшую шляпу и швырнул в лужу.
– Отпустите меня, – спокойно сказал Игорь по-французски.
Старик в тюрбане прищурился, оскалился:
– Отпусти тебе? Отпусти, отпусти! Деньга тебе нет, правда сказать! Мы все голодать! Достать мы еда – тебе отпусти!
Вели его, как коня в поводу, мимо домов, мимо ярких витрин. Кафэ, и стулья сгребли от дождя под тент, и из открытой двери желтый свет, и терпко пахнет кофе. Игорь вспомнил кофейни Буэнос-Айреса, и стало сладко и больно сердцу. Смешно, и кофе захотелось, хоть одну маленькую чашечку, крепчайшего, да с коньячком.
– Я не буду грабить кафэ.
Ливень ослабевал. Струи уже не больно били асфальт и гранит – лились медленно, с грацией фонтана.
– Зачем кафэ? Не надо кафэ! – Тюрбан высморкался прямо на мостовую, зажав пальцами нос. – Вот лавка! Взять овощ! Взять – и убегай!
Игорь посмотрел на мусульман. Мокры как мыши. У них его оружие. Револьвер заряжен. Не повезло ему. Он купил его с рук у очаровательного, похожего на болонку торговца на Блошином рынке. Торговец запросил смешные деньги. Нет, определенно все это смешно. Смешно.
Увидел себя со стороны: мокрый, без шляпы, обчистили, и еще смешней, что – не боится. Расхохотался раскатисто, во все горло. Восточные люди попятились.
– Откуда? Алжир? Марокко? Африка?
– Африка, Африка, – закивал толстогубый. – Взять овощ! Взять!
«Как собаку, науськивает».
Игорь боком подошел к мокрым, глянцево блестевшим в свете фонаря овощам и стал набивать карманы помидорами, картофелем, баклажанами, огурцами, ревенем, шпинатом, апельсинами, морковью. «Прости-прощай, мой смокинг! И рубаха моя с кружевною манишкой, от Картуша! Где выстираю, где проглажу? В Буэнос-Айресе белье мне гладила Ольга». Ольгу вспомнил – голова чуть закружилась. Прошлое. Растаяло. Вспоминать? Смешно.
Карманы раздулись, отяжелели. Обернулся к грабителям: хватит? Толстогубый махнул волосатой рукой. Тюрбан цепко схватил его за руку, поволок. Носом ткнул в мокрое, блестящее стекло. За стеклом горели, сияли, мерцали чудеса: ветчина и буженина, медово-желтый сыр и сыр с малахитовыми прожилками зеленой плесени, оливки в серебряных мисках и крабьи красные ноги, связки копченых колбас и рыжие, с золотистой корочкой, окорока.
Подельники быстро вытащили из карманов у Игоря добычу. «Куда сложили? А, за спиной у старика мешок!»
– Разбить! – повелел Тюрбан. – Живо! Ажан, арест!
Игорь размахнулся ногой и ударил каблуком по стеклу витрины. «И башмаки от Андрэ тоже, родимые, прощайте». Стекло брызнуло на асфальт со звоном. Ноздрей Игоря достиг запах копченого мяса. Он ударил в стекло локтем, чуть повыше. Разбойничьи-нагло шагнул в лавку через проем. Давил осколки подошвами, они хрустели. Игорь брал в руки снедь и передавал африканцам. Так из рук в руки передают на стройке кирпичи. Смешно.
Они обчистили почти всю лавку. Котомка на загривке у Тюрбана походила на верблюжий горб.
Игорь взял в руки большой ломоть синего козьего сыра, спрыгнул на тротуар, впился в сыр зубами. «О! Душистый! Зверем пахнет, козой. Соленый! Со слезой! Черт, я в Буэнос-Айресе еще и не такое творил!» Ел и смеялся.
Африканцы стояли перед разбитой витриной и глядели, как он ест. И тоже смеялись.
Рядом длинно, протяжно свистнули. Их сейчас и впрямь арестуют! Смешно!
Игорь не двинулся с места. Тюрбан толкнул его в спину, прохрипел:
– Уходить! Слышать, уходить! Ажан! Тюрьма!
Они побежали по улице. Все быстрей и быстрей. Сзади свистели, слышался топот. Они свернули в узкий переулок, потом нырнули в подворотню, и топот стих, и свистки, и ругательства.
Грабители привели его в притон. Игорь оценивающе глядел, изучал: да, колоритно, да в Буэнос-Айресе бывало и живописней. «Черт, что это я все время Буэнос-Айрес вспоминаю? Я в Париже! К лешему Аргентину! Я парижанин лишь наполовину. Стану настоящим, блестящим парижанином».
Мрачные своды. Керосиновые лампы. Тени женщин, они в чадрах. Глаза горят из-под черной сетчатой ткани, гладят его по лицу, как легкие руки. Мусульмане обрезанные; это приносит их женщинам наслажденье или нет? Стол в потеках вина и жира, уставлен свечами, одни догорают и чадят, другие сейчас зажжены. Ночь и огонь. Огонь и ночь. Синий попугай в старой золоченой клетке сидит на жердочке, раскачивает клетку, как качели. Развлекается. Двое в углу курят кальян. Змеи кальяна ползут ко ртам; змеями ползет ароматный, вином пахнущий дым изо ртов и ноздрей. Да, они наливают в кальян вина, чтоб вкуснее было. Гурманы.
На запястьях женщин – изощренно вышитые аметистами, жемчугом, бисером, стеклярусом, широкие кожаные браслеты. Лизнешь – сладко: не камни – леденцы. Сладкая, сахарная роскошь Востока. Может, он уже не в Париже, а в Марракеше?
Тюрбан хлопнул ладонью по столу. Сидевшие за столом подняли головы. Кто спал – проснулся. Кто бодрствовал – вздрогнул. Хозяин пришел.
Тюрбан прорычал длинную, как музыка, фразу на своем языке. Игорь внимательно слушал. Он различал диалекты арабского. «О да, они из Марокко, скорей всего. Только не из Аравии; не с берегов Красного моря. Другой выговор». Игорю подвинули колченогий стул. Он сел. Никто больше не заламывал руки ему за спиной. Никто не бил его кулаком в живот. Они поняли: он свой.
«Да, я показал им себя. Понравился им. Ловко я лавку обчистил. Не забыл прежние ухватки».
Сидел за столом, глядел, как свеча горит, и думал, думал. Молчал.
«Как отсюда уйду? С чего начать?»
И его осенило.
– Карты! – Поглядел на Тюрбана и руками показал, как карты тасуют. – Карты! Играть! Скоротать ночь! Я спать не хочу!
Тюрбан проколол его острыми копьями зрачков. Маслено, медленно катались в орбитах круглые, черные маслины злых, смышленых глаз.
– Игра! Играть! – воскликнул Тюрбан, и щеки, покрытые синей щетиной, зарумянились, как лепешки в печи. – Наш французская друг предложить мы играть!
– Игра «кинг», знаешь такую?
Карты уже бросили на стол. Уже он сдавал их, блестя зубами, подрагивая усами.
«Сегодня картежная ночь, ma parole. Я должен выиграть».
Игру в «кинга» знали все матросы на свете. Все бандиты и содержатели портовых притонов в Буэнос-Айресе ее знали. Не брать взяток. Не брать червей. Не брать дам. Не брать… короля этого, милль дьябль, кинга… разбойника… уродца поганого… черт!.. он в тюрбане…
Игорь сдавал и сдавал, и игра летела вслед за игрой – так птица летит за птицей, никогда не догоняя соперницу в стае. Мусульмане чесали пятернями грязные головы. Язык тускло-желтого пламени в закопченном стекле керосиновой лампы плыл розовым огнем в глубине опала. Последняя партия! На что они играют? Они не условились о ставке!
– На что мы играем, милейший?
– На деньга! На деньга!
Холод прошел когтями у Игоря по спине.
– На мой револьвер!
Долго, хрипло, натужно хохотал Тюрбан. Оборвал смех. Кивнул.
– Хорошо! Револьвер! Тебе оружие надо Париж!
Брякнул револьвером об стол.
«Не подкачай, удача моя, голубка… не подведи».
Рыжий король червей, Кинг в красном тюрбане, глядел на него с грязной сальной карты торжествующе. Он выиграл.
Мрачно сидел Тюрбан за столом. Тер ладонью синюю колючую щеку. Катал маслины глаз по бесстрастному лицу Игоря.
– Да! Ты – выиграть!
– Револьвер! – сказал Игорь, встал из-за стола и протянул руку ладонью вверх.
И тогда Тюрбан захохотал, забулькал, затрясся, заблажил. Так хохотал, что свет в керосиновой лампе погас! Смешно.
– Тебе? Отдай? Револьве-е-е-ер? – и снова трясся и качался, и захлебывался смехом. – Я пошутить! Тебе отдай – а ты мы все стреляй! Стреля-а-а-ай! А-ха-ха!
Игорь скрипнул зубами. Так, провалено дело.
«Думай, голова, шапка новый купим. Так говорил наш дворник Рахим в Москве. Подметал мостовую перед нашим домом, так говорил, качал головой, смеялся! Где мой дом? Где моя Москва? Что там сейчас? Совдепия? Парады на Красной площади? Красные транспаранты? Все в униформе, все по ранжиру?!»
Может быть, Тюрбан заметил, как он побледнел. Может быть. Пусть думает: он бледен от испуга, от гнева.
– Не надо! – Игорь поднял руки над головой. – Оставь оружие себе! Хочешь, песню спою? И станцую.
Тюрбан выкатил глаза.
– Стан-цуй?!
– Да, да! Танец! Танцевать! – Игорь сделал несколько па, щелкнул в дымном воздухе пальцами, как кастаньетами. – Весело!
Дымный мрак вздрогнул и поплыл. Все повскакали с мест. Загремели падающие стулья. Выволокли из тьмы женщин, они сначала упирались, потом грациозно выгибали спины, двигались, мелко перебирая по заплеванному полу ногами – лебедицы, павы. Чадры не снимали. Игорь танцевал в середине хоровода, шестым чувством переняв движенья: выставлял вперед плечи, поднимался на носки, опускался на пятки, плыл рядом с женщинами, заведя руки за спину. Потом стал перебирать ногами, пристукивать. Четкий, жесткий ритм. Да. Да. Вот так. Набрать в грудь воздуха. Запеть.
Пел, как и танцевал, – ритмично, рисовал голосом четкий, ясный узор. Потом голос стал чертить завитки, исходить сладостью, негой. Игорь хорошо пел и знал это. У него в России друзья были певцы; и здесь, в Париже, он уже пару раз за кулисы к самому Шевардину приходил. Ах, в ночных московских пирушках его не раз просили спеть! И пел: то жестокий романс, то русскую, то – Чайковского. «Растворил я окно, стало душно невмочь! Опустился пред ним на колени…»
И еще он хорошо умел делать кое-что.
Этому его научили в Буэнос-Айресе.
Он-то думал тогда – зачем старуха Хуана время тратит, ведь не пригодится наука!
Четкий стук. Крылья голоса. Голос летит. Ноги перебирают, ноги выстукивают чечетку. Железный ритм. Никакой музыки, железный ритм. Гляди, они уже садятся на стулья. Они оседают. Пеплом, серой пеной. Падают на доски стола, на пол высосанными окурками. Они закрывают глаза. Там. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-там.
Голос, плети кружева. Плети вензеля.
Ноги, танцуйте. Стучи, каблуки. Та-та-та-там.
Они спят.
Спят, слышишь ты, спят!
Спят восточные куклы. Спят смуглые красивые куколки в тюрбанах и грязных накидках. В чадрах и кепи. Умильно улыбаются нарисованные ротики. Торчат волосенки из пакли. Спите, куколки, спите. Я осторожно. Я вас не разбужу. За ниточки не дерну.
Остановился. Тихо. Утер пот со лба.
Они все, мусульмане, африканцы пухлогубые, под сводами воровского притона спали, а кто-то спал, как лошадь, с открытыми глазами, а кто-то – голову закинул, и в глотке перекатывалось, хрипело. Тюрбан уронил голову в колени. Тихо. Тишина.
Револьвер лежал на столе. Игорь спокойно взял его. Желваки вздулись над скулами и опали. Так, хорошо. Он погрузил их в сон. Спасибо, старая аргентинка, ведьма, Хуана Флорес. Уроки пригодились. Здесь и сейчас.
Оглядел камору. Свечи догорали. Те, кто курил кальян, спали, положив кудлатые нечесаные головы на смуглые руки. Они сидели далеко, в темном углу, и все же он увидел – в сгущении тьмы серебряно, нежно блеснул странный свет.
Стараясь наступать беззвучно, на носки, Игорь подошел к спящим курильщикам кальяна. На баранье-курчавом запястье молодого марокканца светился странный серебряный браслет. Он никогда таких не видел. Серебряная змея обвивала густо-коричневую, сильную мохнатую руку. «Проснется – ударит в скулу – костей не соберу». Наклонился; осторожно, нежно, вор заправский, умелый, снял серебряную змейку с чужой руки. «Я царь воров, слава мне и хвала».
Еще валявшийся около кальяна берет подобрал. Вместо погибшей под ливнем шляпы.
Браслет в карман, револьвер в другой. Снова свободен. Только выйди так, чтоб не скрипнуть дверью.
Ему это удалось.
Светало. Дома Парижа на рассвете – легкие, воздушные, расцветают серыми громадными розами. Люди просыпаются, поднимают жалюзи, впускают в комнаты свет. Все прозрачно, призрачно. Париж – призрак, Париж – серые крылья летучей мыши; нежный, беглый этюд сепией, углем, мягкой сангиной. Боже, почему он не художник!
Иногда сердце сжималось: хотелось большего, высшего, нежели жизнь вокруг, над головой, под ногами. Хотелось – неведомого, дикого счастья.
И чтобы все люди, да, все на свете знали, любили его!
«Я буду знаменитым. Я буду знаменитым! Хор похвал зазвенит! Обо мне все узнают! Цветы и любовь сложат к моим ногам! Да, вот к этим, к этим ногам… шулера, тангеро, бродяги…»
Посмотрел на размокшие под ливнем туфли от Андрэ. Да, в мусорницу! Да не пойдет же он босиком! А куда он пойдет? Домой? Он же из дома ушел. Где дом теперь?
Поднял голову; засвистел весело. Как парижский мальчишка, гамен.
«Весь Париж – мой дом!»
Смутный, серо-розовый, влажный рассвет. Небо затянуто тучами. Дождь прекратился. Камни мостовых впитали влагу. Уже не ночь, и еще не утро.
Шел, насвистывая модную шансон, по улице. Внезапно распахнулась дверь ночного ресторана, раздался звон – из дверей на мостовую полетели чашки, рюмки, хрустальные бокалы, фарфоровые тарелки, вот даже супница полетела, и – хрясь! дрызнь! веером осколки!
Отступил, смеясь. Скандал? Сейчас прибудут ажаны? На крыльцо заведения вышел хозяин – галстук-бабочка, белейшая манишка, штиблеты начищены, весь с иголочки.
– Медам, месье! Силь ву плэ!
Ручками пухлыми приглашающий жест сделал. А, понятно! Посуду бьет – народ завлекает! Ресторанишко-то ночной, а посетителей – нет!
Зайти позавтракать, что ли…
Рука в кармане. Карман – пустой.
Игорь помахал рукой галстуку-бабочке. Мимо, мимо! Навеки мимо! Навсегда! А может, еще свидимся в Париже, друг!
Идя по улице, увидел огромные, в три человеческих роста, окна; никогда не видывал таких домов. Шторы откинуты. Гляди не хочу. Он заглянул. Яркие люстры, бильярдные столы, бра, торшеры; и по стенам – картины, картины. Галерея? Салон? Дверь открыта, но никто из нее не швыряет на мостовую посуду. Глаза ловили перемещенья фигур по комнатам: о, тут красивые дамы, но это не бордель, ма пароль! Не все красивые. Улыбнулся. Посреди зала, под слепящей люстрой, в громадном, как корабль, кресле сидела толстая, расплывшаяся лягушка. Она была отвратительна, безобразна. И все толпились вокруг нее. Все говорили с ней. Все улыбались только ей. А она важно кивала головой на все речи – и тоже улыбалась, широким, в бородавках, жабьим ртом. В похожих на пельмени ушах жабы блестели хорошо ограненные брильянты. Хозяйка салона.
Над зеленым сукном бильярдного стола стоял высокий человек со щеткой моржовых густых усов, отирал от пота лысеющий лоб, что-то быстро писал в толстой записной книжке. Или в тетради, он не разглядел.
Люстра горела зазывно, царственно. Он вспомнил люстру Большого театра в Москве. Ребенком отец водил его туда на спектакли. Игорь замирал от счастья, когда Зигфрид в балете обнимал Одетту. Он капризничал и плакал, когда по сцене носился, в расшитой золотой нитью безрукавке, Эскамильо и пел пронзительным, рвущим уши тенором: «Тореадор, смелее в бой!»
Вспомнил гигантскую, как чудовищный спрут южных морей, страшную люстру в буэнос-айресском театре «Колон». Когда они танцевали с Ольгой в «Колоне» танго лисо, ему чудилось – ослепительная люстра сейчас сорвется с петель, начнет падать, валиться со звоном и смехом на их голые, беззащитные головы.
Здравствуй, третья люстра. Бог троицу любит – не зря.
Он вошел в открытую дверь.