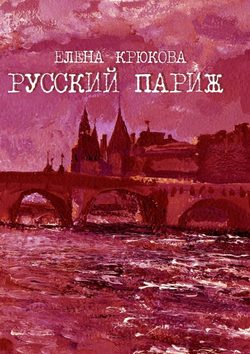Читать книгу Русский Париж - Елена Крюкова - Страница 9
Канкан
Глава седьмая
ОглавлениеВы ляжете, знаю, в седые гробницы,
В златые, в рубинах, гроба.
Вам петь будут, плакать,
лбом биться, молиться:
Хоронит Царей голытьба.
Хоронит… —
а что ж по затертым Парижам,
По кладбищам, день ото дня
Русеющим… – в грязи, зловоньи да жиже —
Не похоронили – меня?!
Анна Царева. «Я знала их всех…»
В Мулен-Руж – традиционный ночной канкан.
О, это зрелище! Лучше бала любого.
Кто не видал канкан – не видал Парижа!
Девчонки вздергивают ноги выше головы. Цветные юбки развеваются. Они похожи на огромные цветы, а голые ноги в подвязках – на бешеные пестики, безумные тычинки.
Выше! Выше ноги! Тяни носок, Камилла! Подбрасывай, Одиль, колено к подбородку! А ты что спишь на ходу, красотка Мадлен?! Давай, давай, работай! Канкан – это и танец, и работа! Грозный, великий карнавал!
Девки на сцене плясали, а публика в зале лениво потягивала ядовито-зеленый абсент из длинных бокалов и иные аперитивы.
Громадные живые цветы плясали. О, танцорка Одиль села на шпагат! Оркестр вжарил как следует, оглушительно. Веселое искусство, веселая страна!
Где еще так веселятся, как в Париже? Да нигде! Мир Парижу – в подметки не годится!
За столом сидел молодой усатый парень, в германской военной форме. Рядом с ним – еще трое. В мундирах, при погонах. Народ косился: боши! Кое-кто смекал: наци. Опасливо вставал, уходил, чтобы не слышать лающую, собачью речь.
Французы ненавидели немцев и англичан. Хотя улыбались им вежливо. Европа вежлива и галантна. В особенности Франция.
Девчонка в небесно-голубых пышных юбках выше всех задрала голую ногу, на миг мелькнул, под взлетевшими кружевами, черный курчавый треугольник внизу живота. Ба, да она без панталон! Молодой немец с черными кошачьими усиками над нервной, подвижной губой выкатил глаза от восторга, захлопал в ладоши. Крикнул: бис!
– Да тут все на бис, Адольф, – кинул его круглый толстый друг, поглощая устрицы, выковыривая их ногтем из панциря. – Ты разве не видишь, что тут все по кругу? Это же колесо! Красная мельница! Мелет без роздыху!
– Мне нравится, что – красная! – Усатый парень подмигнул живому шару. – Гляди, как на нас народ косится!
– Повязку сними.
Толстяк кивнул на повязку на рукаве Адольфа – с черным четырехногим крестом свастики.
– Зачем? Пусть боятся!
Заложил руки за затылок, потянулся. Выпитый абсент ударил в голову. Нет, хорошо в Париже!
Ближе к рампе плясали канкан две раскосых девчонки. Явно не парижанки. Японки или китаянки, черт разберет. Меньше всех ростом, поэтому их вперед и вытолкнули.
Та, что поменьше, – дочь Юкимару. Марико, злобная мачеха, отдала девочку в ночной клуб: «Ненавижу детей! И – ненавижу его ребенка!» Говорят, развелись они вскоре после того скандала. Журналисты во всех газетах писали. Юкимару нашел девочку спустя год в Мулен-Руж. Хотел взять к себе. По слухам, она отказалась.
Та, что повыше, Изуми. Эта сама в Мулен-Руж пришла. Ее на похоронах надоумили. Шептали: «Будешь хорошее жалованье получать, а школа танца какая!» Кто шептал-то? Рядом с ней девушка такая красивая стояла, все Изуми по черненькой головке гладила, да, Ольга звали ее. Норвежское имя. Или шведское? Девушку под ручку держала смешная старушка. Месье импресарио покойной маман Ифигении сказал на ухо горничной Лизетт: «Лесбиянки». Изуми не знала, что это такое, и рассмеялась сквозь слезы. Уж очень смешно звучало. Маман Ифигения лежала в гробу ужасная, уродливая. Удавленники все такие, сказали ей. Синие, одутловатые, и губы искусаны, и вздутые веки.
Изуми потом молилась богине Аматэрасу, чтобы маман ей не снилась.
А когда отец к Кими приходил – так на Изуми посмотрел!
Она покраснела тогда, как вишня. Опустила головку. Такой жгучий взгляд. Выдержать нельзя.
В Мулен-Руж японки танцевали по ночам, но не каждую ночь. Днем спали. Спальни для девочек – в этом же доме, на третьем этаже. Окна закрываются тяжелыми черными шторами. Дежурная по спальне с трудом задергивает шторы. Уж лучше греть уголь для утюга. Танцевальные платья надо гладить хорошо, особенно лифы. Мятый лиф – тебя лишат ужина. А может, и сладкого.
Изуми и Кими говорили по-японски. Были счастливы этим.
Все уснут в огромной холодной спальне, а они на родном языке шепчутся.
А за окном – Париж, серый, дождливый, холодный. Угрюмый.
Веселая только эта музыка – канкан. Эти ноги – выше лба. Там, тара-тара-пам-пам!
– Когда Париж будет наш, я прикажу поставлять нам к столу всех экзотических девиц. Не правда ли, Херинг?
Адольф все еще потягивался, держал на затылке ладони.
– Твоя правда, фюрер!
Херинг выбросил над столом руку – вверх, от плеча. Будто косой луч ударил в потолок полутемного, пьяного зала.
– Славно японочки танцуют. Очаровашки!
– Запомни, Херинг, – раздельно, чеканя слоги, выговорил Адольф, – любая другая нация, кроме арийской – поганая нация. Повтори!
Крикнул громко и страшно. Толстяк подобрал под стул короткие ножки.
– Любая нация, кроме арийской, дрянь!
Усатый парень усмехнулся.
Двое других его приятелей, коротышка Хеббельс и дылда Химмлер с плотоядным, сладострастным, алым, как у женщины, ртом, потягивали из бокалов арманьяк.
Под утро, натешившись, вывалились из «Красной Мельницы» на набережную Сены. Ветер поднялся. Крутил по асфальту обрывки газет. Пьяно косили глаза. Пьяно раззявлены рты. Свастики на рукавах. Ветер в головах. О да, они молоды!
А молодые – мир завоюют. Попробуй, поспорь!
– Париж будет наш!
– Европа будет наша!
– Тысячелетний рейх! Тысячелетнее царство истинных арийцев! Все народы будут служить нам! Только нам! И эти, французики…
Коротышка Хеббельс плюнул на мостовую.
Дылда Химмлер свистел сквозь зубы: «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин!»
Адольф толкнул Химмлера кулаком в бок.
– Ах ты! Драться!
– Истинный ариец должен уметь драться даже с другом! Я тебя завалю, бык!
– Это я тебя завалю!
Шутливо, понарошку дрались, возились на пустынной утренней набережной. Солнце выплывало из-за Сены оранжевым, тоскливым шаром. Толстяк Херинг и малютка Хеббельс стояли, созерцали драку. Хохотали. Херинг закурил сигару.
Гасли газовые фонари. Мерцала зеленая, цвета чешуи линя, вода в Сене. Алая дорожка побежала по воде. Солнце взошло.
Остановились, запыхавшись. Раскровянили друг другу лица, скулы. Подбитый глаз Адольфа наливался чернильной синью.
– Ну что, Шикльгрубер, как я тебя?
– Слабак ты. Я возьму реванш!
Химмлер отряхивал грязь с обшлага мундира.
– Не сегодня.
*
В пальцах пожелтевшая фотография. Коричневые разводы; сепия; угольные тени. Потрепанные края фотографии тщательно убраны под паспарту, под стекло, под край изящного багета: черное дерево, нить позолоты.
Пальцы дрожат. Губы дрожат. Старая женщина вот-вот заплачет.
Седые волосы забраны на затылке в пышный пучок. Когда-то смоляными были, вились.
Маленькая и старая, а плечи все еще хороши.
Складывает пальцы в щепоть. Медленно совершает крестное знамение. Сморщенные губы повторяют молитву. Кружево воротника дрожит от дыханья.
Ни болезни, ни печалей, ни воздыхания… но жизнь бесконечная…
Мать жива, а сына убили. Старая мать молится за мертвого сына.
Если молиться за мертвых – мертвые там, на небесах, будут молиться за нас.
Блеск зеркала. Тусклое серебро волос. Погашена люстра. Горит свеча.
В зеркале пламя свечи отражается. Воздух плывет.
Уплывает жизнь, ее большой, горящий огнями корабль. В ночь уплывает.
– Сыночек… Любимый… Родной…
Она шепчет сначала по-русски, потом по-датски. Датчанка Дагмар. Русская вдовствующая Императрица в изгнании Мария Феодоровна.
Красиво и в старости красавицы лицо. Любуйся, зеркало. Погаснет отраженье – останется свеча. Погаснет свеча – повиснет синий дым.
«Я Императрица, но имя мое забудут, оно сотрется даже с царской могильной плиты».
Сынок, Ники! Санки и зима. Хрусткий снег. Золотые от Солнца сугробы. Ты катаешься на санках с ледяной горы с дочками и малышом Алешинькой. Неужели вас всех застрелили, как скот на бойне, проткнули штыками?!
«Не вижу этого. Значит, этого не было».
Ей спокойнее думать так. Не было, не было никогда.
На стекло капает слеза. Марья Федоровна торопливо стирает слезу рукавом. Не плачь, принцесса Дагмар. Скоро увидитесь: на том свете.
*
Царственная мать плакала над фотографией сына – Анна горбилась над столом. Ночь, время ее работы. Недосыпай, пиши! Коль тебе голос дан – взято иное счастье. Семен лежал на животе, лицом в подушку уткнулся.
Дети спали тихо.
Анна шевелила губами, повторяя слова.
Перо летало по бумаге, рвало бумагу, застывало, летело опять.
Вижу… вижу…
Силки крепа… кости крыжа…
Витые шнуры… золотые ежи
На плечах… китель режут ножи…
Пули бьют в ордена и кресты…
Это Царь в кителе. Это Ты.
Это Царица – шея лебяжья.
Это их дочки в рогожке бродяжьей…
Ах, шубка, шубка-горностайка
на избитых плечах…
А что Царевич, от чахотки – не зачах?!
Вижу – жемчуг на шее Али…
розовый… черный… белый…
Вижу – Ника, Ваше Величество, лунь поседелый…
Вижу: Тата… Руся… Леля… Стася… Леша…
Вы все уместитесь, детки,
на одном снежном ложе…
Кровью ковер Царский, бухарский, вышит…
Они горят звездами, на черное небо вышед…
Царь Леше из ольхи срезал дудку…
А война началась —
в огне сгорела Стасина утка…
Изжарилась, такая красивая, вся золотая птица…
Стася все плачет…
а мне рыжая утка все снится…
Ах, Аля, кружева платья метель метут…
А там, на небесах,
вам манной каши лакеи не дадут…
Вам подсолнухи не кинут крестьяне
в румяные лица…
Ты жила – Царицей… и умерла – Царицей…
«Да, да, вот так, верно. Это будет первый кирпич. Дворец возведу. Им – дворец?! Да, им, расстрелянным, оболганным. Память моя, любовь моя – им. Все забыли о них! Над костями их – пихты, ели черными хвостами метут! Расстрел. Я тоже ходила на расстрел! Да Бог спас. Бог, Ты ли спас меня?! Для чего оставил меня жить?! Для того ли, чтоб я тут, в Париже, лямку тянула, из-за хлеба поденного – пот лила?!»
А я живу – нищей… и помру – опять нищей…
Ветер в подолах шуб ваших воет и свищет…
Вы хотите пирогов?!.. – пальчики,
в красном варенье, оближешь…
С пылу-жару, со взрывов и костров…
грудь навылет… не дышишь…
Кулебяки с пулями… тесто с железной начинкой…
А Тата так любила возиться с морскою свинкой…
Уж она зверька замучила… играла-играла…
Так, играя, за пазухой с ней умирала…
А Руся любила делать кораблики из орехов…
У нее на животе нашли, в крови, под юбкой… прятала для смеху…
Что ж ты, Аля-Царица, за ними не доглядела…
Красивое, как сложенный веер,
было нежное Русино тело…
Заглядывались юнцы-кадеты…
бруснику в фуражках дарили…
Что ж вы, сволочи, жмоты,
по ней молебен не сотворили?!..
Что же не заказали вы, гады, по Русе панихиду —
А была вся золотая, жемчужная с виду…
А Леля все языки знала.
Сто языков Вавилонских, Иерусалимских…
Волчьих, лисьих, окуневских…
ершовских… налимских…
На ста языках балакала, смеясь, с Никой и Алей…
Что ж не вы ей, басурманы,
сапфир-глаза закрывали?!..
«Да, да, именую их всех – смешно и радостно, детские имена всем выдумала. Ника – Николай Александрыч, простите меня, Государь, да я вас как сына своего назвала! Аля – ну понятно, Александра: как моя дочь! Ника и Аля, Аля и Ника. Вы мертвы, но вы – мои дети! И я, я теперь ваша мать!»
Там, в лесу, под слоем грязи…
под березкой в чахотке…
Лежат они, гнилые, костяные,
распиленные лодки…
Смоленые долбленки… уродцы и уродки…
Немецкие, ангальт-цербстские,
норвежские селедки…
Красавицы, красавцы!..
каких уже не будет в мире…
Синим вином плещутся в занебесном потире…
«А детки? Ну да, детки. Ольга – Леличка. Татьяна – Тата, по-питерски: в Москве бы – Танюшей звали. Мария – Маруся, Руся. Анастасия – Стасинька. Алексей – Лешинька. Все просто. Вы – родные!»
А я их так люблю!.. лишь о них гулко охну.
Лишь по ним слепну. Лишь от них глохну.
Лишь их бормотанье за кофием-сливками по утрам – повторяю.
Лишь для них живу. Лишь по ним умираю.
И если их, в метельной купели крестимых, завижу —
Кричу им хриплым шепотом:
ближе, ближе, ближе, ближе,
Еще шаг ко мне, ну, еще шаг,
ну, еще полшажочка —
У вас ведь была еще я,
забытая, брошенная дочка…
Ее расстреляли с вами…
а она воскресла и бродит…
Вас поминает на всех площадях…
при всем честном народе…
И крестится вашим крестом…
и носит ваш жемчуг… и поет ваши песни…
И шепчет сухими губами во тьму: воскресни… воскресни… воскресни…
Разлепила губы. Вслух, громко сказала:
– Воскресни!
Семен дрогнул голыми лопатками. Диван противно скрипнул. Муж всегда спал голый до пояса, без рубах и пижам, в любой холод. Анна помнит, как во Вшенорах не топили на ночь печь – дрова экономили. Семен ложился в постель, как прыгал в ледяную купель, в иордань на Богоявленье. Анна ложилась рядом, вытягивала ноги, руки складывала на груди – чисто покойница. Семен смеялся, обнимал ее, прижимал к себе, тормошил. Согревал.
Целовал…
– Аннушка, ложитесь. Рано вставать!
– Сейчас, Семушка. Вы спите. Отдыхайте.
Часы в гостиной Чекрыгиных пробили медленно, медно: раз, два, три, четыре. Четыре ночи. Четыре – утра?
Анна встала из-за стола, прямая, сухая. Спина как доска. Живот как жостовский поднос. Плечи тверже вешалки. Над рукописью стоя, перекрестилась на рассветное окно – жестко, медленно. Так восставшие от паралича двигают затекшей рукой.
*
Стадион гудел. Пол-Парижа пришло на состязания бегунов!
Легкая атлетика в моде. При огромных скоплениях народу прошли Олимпийские игры в Амстердаме. Ждут Олимпиады в Америке. Здесь, в Париже, сегодня – чемпионат мира. Прыжки в длину, прыжки в высоту!
Бег захватывает. Бежали четыреста метров мужчины, сейчас побегут женщины, восемьсот!
Гул, жара, дамы обмахиваются газетами. Дети прыгают с трехцветными флажками в руках. Зрителей обносят водой, пирожными. На небе – ни облачка. Жаркое лето в Париже!
Нидерланды, Германия, Англия, Испания, Швеция, Канада, Бразилия, Франция.
Поджарые, стройные лошадки, груди плоские, как у мужчин, а мышцы ног сильные, вздуваются на бедрах. Бразильянка подвязывает шнурок. Шведку сразу отличишь – выше всех, и волосы белые, соломенные, убраны в конский хвост.
За Францию бежит Мари-Жо Патрик. Чернокожая! Нет, мулатка скорее. Она из Алжира, из Касабланки. Тренировалась в пустыне. Слухи ходят – самая быстроногая!
Переступают с ноги на ногу. Подпрыгивают. Смотрят вперед, на беговые дорожки, прищурясь: солнце в глаза бьет.
Трудно бежать будет – жара.
Трибуны скандируют: «Ма-ри-Жо! Ма-ри-Жо!» Все хотят, чтобы мулатка победила.
Да она сама хочет. Ноги, как у кобылы породистой! Вперед, Франция!
Скользит глазами по трибунам. Рассеянно, близоруко. Ничего не видит. Видит лишь красную кровь победы.
В толпе, на трибунах, меж рядов пробирается Игорь. Будто бы к своему месту пробирается. На самом деле билета у него нет: вошел на стадион воровски – перепрыгнул через ограду. Сегодня он не Игорь Конев. Сегодня он – вор, гамен. Зазевается зритель – раз! – руку ему в карман брюк. Задумается дама, поедая мороженое, – раз! – незаметно – утянуть сумочку у нее с шелковых колен. Опасный промысел; зато верный. Верный кусок хлеба, ибо стадион – большой. Большая добыча сегодня ждет! Если не поймают.
Стянув бумажник у жертвы, Игорь извиняется. Игорь вьется около ограбленного вьюном, ужом: ах, простите! Ах, экскюзе муа, силь ву пле! Проталкивается дальше, дальше по рядам. Если кто обнаружит пропажу – его ни за что не найдет. Тысячи тут! Муравейник людской! Живая икра в огромной миске амфитеатра. В случае чего он успеет убежать. Он знает, как быстро смыться отсюда. Присмотрел лаз в заборе. Никто не охраняет.
На трибунах, среди зрителей – Жан-Пьер Картуш и Виктор Юмашев. Кутюрье любят спорт? О, не только! Кутюрье наблюдают натуру, не хуже художников. Они здесь с корыстной целью. Ищут новые модели. Им нужны манекенщицы. Бегуньи – вот отличный материал.
Возопил судья:
– На ста-а-а-арт!
Бегуньи наклонились вперед. Шеи вытянулись. Марево жары обнимало худые фигуры.
Победа, только победа!
Но кто-то один победит.
Раздался выстрел. Ура, без фальстарта! Бегут!
Картуш вцепился в рукав Виктора.
– О, Виктор! Гляди, гляди! Шведка впереди! Тысяча чертей!
Юмашев смеялся.
– Погоди, еще первый круг!
Картуш побледнел, засмеялся ответно. Переживал.
Игорь просачивался сквозь людское месиво. Тек как капля. Полз как змея. Он был нагл и опытен. Не думал, хорошо или плохо то, что он делает. Ему хотелось есть. Сегодня и завтра. И, может, на послезавтра тоже хватит. Один такой поход на стадион – полмесяца беспечной, вольготной жизни в Париже. Счастье, что он один! Сбросил Ольгу, как с ноги тесный сапог. И не жалко? А что жалеть?
В жизни ни о чем не жалей. И никого. Начнешь жалеть – тебя не пожалеют.
– Виктор, гляди, воришка! Ловко кошельки тащит!
Юмашев всмотрелся в колыханье голов и рук. Вытер со лба пот.
– Прелестный малый. Какое лицо. В синема бы сниматься ему.
– Каждому свое.
– Ты прав.
– Мне нравится Мари-Жо!
– Если она победит, она не в восторге будет от твоего предложенья.
– Хм! Посмотрим! Карьера бегуньи коротка. А подиум любит даже старушек. Полюбуйся на нашу Додо! Ей же черт знает сколько лет!
– Да, Додо. Женщина-песня. Однажды я видел, как на веранде кафэ «Греко» она обедала с толстухой Кудрун Стэнли и с этим парнем, американцем, Хиллом. Ты бы сказал: это новобрачная.
– Викто-о-о-ор! – Жан-Пьер впился ему в руку, как рак клешней. – Гляди-и-и-и! Мари-Жо обошла бразильянку и немку!
– Какую немку? Какой номер?
– Седьмой! Немка номер седьмой! Газеты писали – немку никто не сможет обойти! Не бежит – летит! Валькирия!
– Почему Вагнера не играют на стадионе?
– Сейчас заиграют! Из «Парсифаля»!
– Шведка впереди. Хильда Густавссон.
– Чертовы эти их имена! Язык сломаешь!
Белобрысая шведка как взяла первой старт, так впереди и бежала. Не сдавала позиций. За ее спиною вырывались вперед то бразильянка с иссиня-черными кудрями, летящими по ветру черным флагом, то крепкая широкоплечая немка с длинными конскими ногами, то тощая как щепка канадка. Мари-Жо отставала, опять догоняла лидеров. Картуш кусал губы.
– Мы не должны проиграть!
– Мы, мы. Почему люди так любят спорт? Потому что победу делает не армия, а – один человек. И ты думаешь: я мог бы быть им!
Около гаревой дорожки стоял человек с громоздкой кинокамерой. Он снимал для синема соревнованья. Камера стрекотала, оператор то и дело смахивал пот со лба платком величиной с географическую карту. Заталкивал платок в карман необъятных штанин. Наводил объектив на бегуний.
– Виктор! – Картуш подпрыгнул на скамье. – Она вырывается! Она… вырвалась! Вот она-а-а-а!
Завопил, не сдержав радости. Замахал руками над головой.
И весь стадион, как по команде, встал и закричал: «Мари-Жо-о-о-о! Мари-Жо-о-о-о!»
– Господи, – прошептал Юмашев по-русски, – прости Господи, желтый дом.
Улыбался. Краем глаза следил за увертливым французским воришкой. Ага, обчистил еще одного, потного толстячка в широкополой, вроде как мексиканской, соломенной шляпе. Уноси ноги, парень, покуда цел! Неровен час, поднимут переполох, тогда конец тебе!
Мулатка легко, будто выжидала этот миг, высоко взбрасывая ноги, обогнала воблу-канадку, густогривую бразильянку и немку-мужланку под номером «7» – и теперь бежала впереди. Так легко и красиво бежала – из всех грудей вырвался стон изумленья.
Бежала – будто танцевала!
О да, это танец. Бег – танец. Бег – счастье.
«Она танцует с Богом вдвоем танец победы». Жан-Пьер смеялся в голос, будто рыдал. Юмашев косился на друга, как на сумасшедшего.
До финиша совсем немного. Метров двести. Или уже сто! Немка наддала. Колени в воздухе замелькали. Поднажала и бразильянка. Немка почти настигла Мари-Жо – та оглянулась, почуяла угрозу, расширила шаг. Она опять впереди!
Стадион бесился. Все прыгали и махали руками и флагами. Молодежь свистела в свистки. Оператор бесстрастно снимал происходящее.
До финиша меньше ста метров. Немка впереди! На полкорпуса! Мулатка опять легко обходит ее, будто дразня. Бразильянка делает невероятное усилие и вырывается вперед!
Стадион взревел. Вопль отчаянья.
Тридцать метров до финиша!
Мари-Жо летит стрелой. Нет, это пуля, черная кудрявая пуля. Живая пуля летит, обгоняя всех, опережая время. Она опередила самое себя. Бразильянка превзошла себя, да! Но черная пуля обогнала и ее.
Финиш!
– Мари-Жо-о-о-о-о! Вив ля Фра-а-а-анс!
Стадион захлебнулся в криках восторга.
Обнимались, целовались. Прыгали и скакали! Мари-Жо пробежала, разогнавшись, еще с десяток метров после финиша – и, подняв вверх черные руки, повалилась животом на дорожку, принесшую ей победу. Поцеловала ее.
Игорь, крепко прижимая за пазухой к ребрам украденные кошельки, тоже глядел на лежащую без сил Мари-Жо. «Как бы не умерла девка на радостях».
– Видишь, Жан-Пьер! Все вышло по-твоему! А ты волновался!
Закурил. Дорогая сигарета обжигала угол рта. Картуш хохотал довольно.
– Ну что, наша модель?
– Наша!
– Гляди, встала! Бежит! Очухалась!
Мари-Жо Патрик бежала круг почета по стадиону с флагом Франции в черной руке. Картуш аплодировал стоя.
Камера стрекотала.
На невесть каком ряду, наверху амфитеатра, черноволосая смуглянка в вызывающе ярком наряде – алый лиф, зеленая юбка, ягодно-красная шляпка с черной вуалью – встала со скамьи, чтобы рассмотреть человека в толпе. Щурилась. Шею тянула. Губы кусала. Узнала его.
Повернулась к спутницам, живо щебечущим девицам.
– Девочки, – весело, холодно бросила. – Не ждите меня! Пока!
Пробиралась сквозь бешено орущую, гудящую как улей толпу.
Неистово плясал и кричал стадион. Мари-Жо пробежала круг победы, знамя Франции выхватили у нее из рук. Фрина Родригес работала корпусом и локтями. Скорее. Он уйдет. Она еще видит его. Вот он!
– Эй! – крикнула, когда голова Игоря, его когда-то роскошный, теперь потрепанный, мятый, будто жеваный пиджак уже близко виднелись.
Она не знала его имени.
Не помнила, как в поезде называла его эта… эта…
«Ну обернись!» – заклинала.
Он обернулся.
*
Кутюрье подошли к золотой мулатке; им не пришлось расталкивать репортеров, судей, восторженную публику – их узнали, все расступались перед ними. Картуш произнес лишь два слова. Потное смуглое лицо озарилось счастливой улыбкой. Улыбка сказала: «Согласна!» А вслух бегунья произнесла: «О, очень интересно, я подумаю».
Картуш и Юмашев вынули визитки. Девушка стояла перед ними в спортивной майке, в коротких шортах, мокрая после отчаянного бега. Мокрые жесткие черные кудри вились, крутились в тугие пружины. Юмашев не сводил глаз с сильных красивых ног. Краска проступила на кофейно-смуглых щеках.
«Это ваш шаг вперед, ваша карьера», – важно сказал Картуш. Их вежливо оттеснил президент Спортивной лиги Франции: сейчас церемония награждения, позвольте!
Немка стояла в сторонке, кусала бледные губы. Она пришла третьей. Серебряная призерка, бразильянка, завязывала ночь волос в тяжелый узел. «Я уже придумал, какую коллекцию сделаю на нее, на Мари-Жо, – сказал Юмашев Картушу, когда они вышли из стадиона на горячий ветер площади. – Ночной Каир. Ночи Египта».
«А что, это мысль! Восток, это превосходно! Сделаем на троих грандиозное дефиле. Пирамиды! Индия! Мексика! Япония!»
«Ты Азию забыл. Тибет. Гималаи».
«Да, пожалуй. Как назовем?»
«Восток есть Восток. Помнишь Киплинга? Но Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись».
Юмашев покусал губы. Понюхал пахнущие табаком пальцы. «Сумасшедшее дефиле. Такого не было в Париже еще никогда. И нигде в мире. Ночи Каира! Водопады Японии! Индийская жемчужина! Колдуньи Марокко! Колокола Тибета!»
Картуш рассмеялся, хлопнул Виктора по плечу. «Теперь ты забыл. Мексика. Ты ж про Мексику сболтнул. Эта земля сейчас в моде. Гляди, как у нас в Париже разворачивается этот пройдоха из Мехико, этот социалист!» Кто, непонимающе глянул Юмашев. «Доминго Родригес! Пузан! А сколько мощи в пузатом бочонке! Самого Микеланджело обскакал! Вроде как сейчас Мари-Жо – всех обставил! Росписями своими весь мир разукрасил! Слыхал, сейчас он во дворце Матиньон работает? У-у-у! Представляю, что он там наворочает! Троцкий, пирамиды майя и канкан в Мулен-Руж в одном котле! Слушай, а в Мексике – танго танцуют?»
Юмашев застыл на тротуаре, как вкопанный. Авто шуршали, проносясь мимо. В глазах русского плясали солнечные бесенята.
«Танго, говоришь? О да, танго!»
Он придумал. Он сделает танго-дефиле. Платья в виде пирамид. Конские хвосты на затылках. Куколки будут выходить на подиум босиком. Танго – босиком танцевать! Мужчина с женщиной. Женщина с женщиной. Мужчина с мужчиной. Кукла с куклой. Это будет скандал! А музыка? Кому заказать музыку такого, невероятного кукольного танго? Была бы идея, композитор найдется. Счастье, он богат, чтобы заплатить за хорошее искусство!