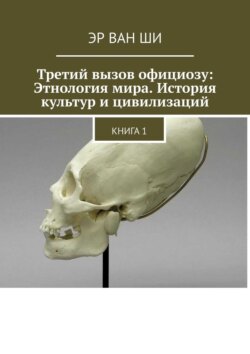Читать книгу Третий вызов официозу: Этнология мира. История культур и цивилизаций. Книга 1 - Эр Ван Ши - Страница 7
Раздел I Космогония
Глава 4 Мифология русских сказок
ОглавлениеОдним из главных персонажей русских сказок-мифов является злое божество Кощей/Кащей – аналог греч. Хаоса и шумерского Аксу, почему совсем не случайно он и «бессмертный» персонаж, и смерть его – в яйце, из которого, по представлениям древних, родился мир. Если учесть происхождение ряда «в.-слав.» племён из Фракии, Мезии, Греции и даже Галлии, то вполне уместна и необходима для понимания ассоциация Кощея с богом Хаосом, прародителем, создателем всего сущего, который, в свою очередь, хорошо известен на древнем Б. Востоке, где в аккадо-вавилонской культуре существует персонаж-носитель хаоса, отец всех богов, Аксу (последний, очевидно, обще-племенной бог для элам. уксиев, коссеев и киссиев).
К имени Кощея порой добавляют эпитет «Трипетович», связанный с др.-меотским племенем тарпетов (нын. македонских мусульман-тарбешей) и древ. дропиками/дербиками (нын. курды-дарвиши), западных родственников камыцко-ойрат. дэрбэтов – и именем греч. героя Триптолема, «первого земледельца», наученного богиней Деметрой (месопотамская Тиа-Мат, критская Этио-Ма – т. е. «мать богов»).
Для многих непонятен сказочный персонаж, именуемый Баба Яга «Костяная Нога». Баба – это не бабушка в нын. понимании, это женщина. Ну а Яга? Но если исходить из того, что в тюркских языках, соседствовавших с Русью, «баба/бабай» означает понятие предка (причём термин «бабай» восходит к скиф. верховному богу Папаю, имеющему аналог в Кашмире – Баба-лашен; божество Баба известно и в Месопотамии), а «ага», соответственно, «старый, старший» (в саамских наречиях, наоборот, акко – женщина, а Маддар-акко (рус. – Матерь-Яга) – «женщина-творец», т. е. прародительница), то становится ясно, что речь идёт о миф. символическом образе-прототипе. У охотничьих народов персонажи, аналогичные Бабе Яге («женщина-предок»), обычно изображаются слепыми. В рус. сказках тоже много данных говорит о том, что она вынюхивает, выслушивает, не видя героя. Это понятно, т. к. древний человек считал, что его со всех сторон окружают невидимые для него (но видимые для шамана, волхва) духи мертвецов. Значит и живой человек в царстве мёртвых тоже окажется невидимым. «Русский дух», который так тонко чует Баба Яга – это запах живого человека (но это же говорит о том, что персонаж этот явно нерусский). Логика проста: для живого человека – пахнут мертвецы, для мёртвого – отвратителен запах живых людей (об этом же говорит мифология с.-амер. индейцев). Мертвец был опасен для живых: можно найти очень древние аналогии в палеолите и мезолите, когда связывали покойников. Бинты егип. и пр. мумий тоже произошли от верёвок, которыми связывали труп, причём на этих бинтах писали заклинания. В др.-иранской религии душу, явившуюся на небо, осыпают вопросами, но верховный бог Ахура-мазда (Хор-месяц) предлагает прекратить допрос и сначала покормить «новичка». В сказках о Бабе Яге можно найти и пережитки матриархата. Не случайно герой оказывается в нек. сюжетах её родственником, причём обязательно по женской линии. Во многих сказках она выступает правительницей мира животных, птиц или рыб, что заставляет вспомнить о женщине-прародительнице, тотемном предке.
Дом на «курьих ножках» – это дом на сваях, что так нынче модно во всех странах. Большие сваи – чтобы не заливало, когда ливни или сезон дождей, да и чтобы зверь не залез. Так везде, где строили раньше. Характерно и для отшельников. В старину деревянные сваи держали над дымом, затем заливали смолой. Поэтому, эти сваи называли «курии», от слова «курить». Такие сваи могут стаять веками.
Кроме того, «избушка на курьих ножках» Бабы Яги напоминает в.-европ. обычай выставлять гробы у дорог на четырёх столбах. И заклинание «избушка, избушка, встань по-старому, – как мать поставила, – к лесу задом, ко мне передом» – тоже будет понятным, если учесть, что избушка-гроб охраняет вход в царство мёртвых, куда без заклинаний попасть невозможно. У с.-амер. индейцев избушка иногда имеет вид животного (тотема), а дверь – пасти зверя. Через эту дверь пропускают после жестоких испытаний инициации юношей. И при этом не надо забывать, что основная масса с.-амер. племён – алгонкинов, сиу и атапасков появилась в Новом Свете сравнительно недавно – всего неск. тыс. л. н.
В весенних и осенних лагерях Севера устанавливается ньяла, которая представляет собой неб. деревянное сооружение. В ньялу входят с помощью лестницы примитивного типа, сделанной в форме надрезанного ствола дерева. Такой способ используется многими арктическими народами. Иногда ньяла опирается на один из огромных камней, поверхность которого стала гладкой благодаря древним процессам оледенения. Она возводится во время привалов в ходе миграций, и на следующую весну группа снова возвращается в неё. Лапландские палатки всех видов имеют одно и то же название – гоатте (ср. с.-кавк. и м.-росс. «хата» – авт.).
Ньяла. Эти хижины были распространены в древние времена по всему Скандинавско-Уральскому региону Европы
В образах владыки или владычицы подземных недр слились воедино реальность и вымысел. Сказанное в полной мере относится и к Хозяйке Медной горы – владелице земных богатств, хранительнице тайн прекрасного и секретов высокого мастерства, из уральских сказов (исследовательница М. П. Никулина отмечает связь Хозяйки с миром мёртвых и царством неживой материи).
Хозяйка Медной горы. Скульптурное воплощение в селените в экспозиции Музея истории камнерезного искусства
Хозяйка Медной горы предстаёт в образе прекрасной зеленоглазой (изначально зелёный цвет глаз присущ з.-европ-м, обитавшим в Приуралье) женщины с косой и лентами из тонкой позвякивающей меди, в платье из «шёлкового малахита», а порой – в виде ящерицы в короне (подобный антропоморфный образ встречается и в Нижнем Междуречье). В её владениях, как и в Подземном Царстве рус. сказок, вовсе не беспросветная мгла. Здесь светло как днем и нет никаких теней мертвецов. Сказочные герои свободно перемещаются по наполненному загадочным несолнечным светом подземному пространству, путешествуют по нему годами, летают при помощи огромных птиц, описания которых не найти ни в одном зоологическом справочнике. Здесь можно встретить населенные города с дворцами и башнями, здесь же, по нек. вариантам рус. сказок, находится убежище Бабы Яги (а вовсе не в дремучем лесу в избушке на курьих ножках), а то и самого Змея Горыныча. Здесь царят мир и благодать, счастье и изобилие, довольство и достаток. Потому-то здесь и расположены 3 царства – Золотое, Серебряное и Медное, где властвуют их хозяйки.
Почему же именно «медной» горы? – Во-первых, этот образ восходит ещё к энеолиту – бронзовому веку истории. Во-вторых, по одной из версий, Хозяйка Медной горы – преломленный народным сознанием образ богини Венеры, которая являлась богиней о. Кипр, имевшего громадные месторождения меди и бывшего «медным» центром всего Средиземноморья, поэтому её символ «♀» – «зеркало Венеры» – стал алхимическим символом этого металла.
И потому-то именно туда в первую очередь устремлялся в состоянии медитации языческий волхв или шаман. Для этого существовали веками и тысячелетиями отработанные приемы. На нек. из них содержится намек в самих сказках. В сказочном тексте о 3-х царствах Иван-царевич под конец попросту «растворяет» (открывает) в случае нужды Золотое Царство, куда раньше добирался целых 3 года. В другой сказке из афанасьевского собрания рассказывается более подробно, как это делается. Имеется в виду сказка о Зорьке, Вечорке и Полуночке. Такие небесно-космизированные имена носят 3 богатыря, предшественники былинных Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Вполне возможно, последние заместили со временем своих гиперборейских предшественников.
Почему гиперборейских? Да потому что имена сказочных героев связаны с полярными реалиями – ночью и зорями, утренней и вечерней. Подобные предпочтения возможны лишь в тех случаях, когда ночь имеет существенное значение в жизни тех, кто обитает в таких северных географических широтах, где продолжительность зимней ночи, а также предшествующих ей и следующих вослед зорей несравнима с широтой последующего расселения прото-рус. (арийских) племен. Так вот, в архаичной сказке, носящей имена гиперборейцев, Зорька, Вечорка и Полуночка также попадают в Подземный мир через глубокий провал и находят там все 3 желанных царства, женятся на их хозяйках – прекрасных королевишнах – и возвращаются назад на землю. Но перед тем невесты, играющие роль добрых колдуний (читай – шаманок), скатывают свои царства в яички. А когда потребовалось вернуть всё назад, «королевны покатили в чистом поле своими яичками – и тотчас же явились три царства – Медное, Серебряное и Золотое».
Саамы поклонялись антропоморфному богу, называемому Ач-че («отец»), который породил гром; иногда он изображается в виде птицы. Позже его стали называть Радиен-Аттье, т. е. «отец, который повелевает». Отсюда: Родина – страна Рода (Отечество), и в.-европ. бог Род (кельт. Руад Рофесса – «всеведающий, всезнающий») – «повелитель». Иногда считается аналогом рус. Даждь-бога (кельт. бога Дагды).
Любопытен персонаж Лихо Одноглазое, встречающийся в рус. сказках. Описывается он как «баба-великанка», пожирающая людей (ему на стол в виде блюда подаются человечьи головы), в остальном же напоминающее нганасанского злого демона Сиги (людоедку). Сейчас известно, что зап. родичи нек. ныне угро-фин. и самодий. народов ранее населяли Британские о-ва, Прибалтику (в т. ч. Померанию (Поморье), с которым связано и название ирландских демонов-фоморов – одноногих и одноглазых божеств – вполне реальных предков совр. беломорских поморов, мигрировавших на Русский Север). В ср.-век. Германии известно племя лигиев (не ассоциировать с лугиями – предками коми-прилузцев (самоназв. – лузса) и одного из карельских этносов – ливвиков (самоназв. – луги-лайзет)! – авт.), потомков м.-аз. ликийцев области Ликия, упоминаемых где-то в Ю. Прибалтике, где и сейчас есть г-к Элк (быв. Лык), некогда, очевидно, их племенной центр. Кстати, в лат. языке слово «лик» означало «волк».
В сканд. и карело-фин. мифологиях есть сходные божества зла и севера – соответственно, Лоухи и Локи (бог огня и зла) – восходящие к ирланд. богу Лугу – местообитание которых, по одной из версий – Лохланн – «страна озёр/озёрная страна» (от шотл. «лох» – озеро).
Определённый отпечаток на этот образ в рус. государственной историко-мифологии могли наложить образы таких легендарно-миф. персонажей, как князь Олег/Ольг (якобы, племянник Рюрика) и княгиня Ольга: первый «прославился» убийством «законного киевского князя» Аскольда (к которому добавляют и вымышленного Дира – по сути, наименование г. Тира – совр. Тирасполь), вторая – убийством древлянского (тервингского) князя из остроготской (гревтунгской, т. е. хорватской) династии Амалов с посольством, и сожжением г. Искоростень. В лице народа эти персонажи выступали как представители зла. Хотя не исключено, что это могут быть, как этнонимы, так и производные от терминов «лях», «лех» (а у угров (хантов) – «лаки», т. е. воин), «илек» – как именовалась воинская знать в Польше, Моравии и у Караханидов (с династиями Богра, восходящей к полабским ваграм, и Арсланов (кара-хаканов), связанных с половецким племенем арслан-опа, и норвежским «именем» -титулом Хакон, пришедшем на север от ветви авар – з.-слав. полаб. варинов/варнов – нын. фарерцев (самоназв. – фарингеры)), а также ирланд. определения «элга» – благородная, прославленная (кстати, в с.-ирландском Уладе (нын. Ольстере) существовал и г. Айлех).
Ко всему, в этот период (1 тыс. н. э.) на Б. Востоке шло распространение культа исламского Аллаха (как считается, от семит. «элахи/элохи» – бог; но не исключено, что имеется связь и с греч. понятием «логоса» – слова (разума), употреблявшегося у гностиков), который воспринимался как не меньшее зло в процессе исламских завоеваний и жесточайшей резни, проводимой мусульманами в отношении завоёванных.
Известно, что до появления азбуки население В. Европы, вошедшее в ареал будущей Руси, помимо своей письменности, пользовалось узелковым письмом, равнозначным узелковому письму инков (кипу) и ряда с.-амер. племён (вампум). Впрочем, известно оно было и в карело-финском эпосе «Калевала», упоминалось также и в Др. Китае. Например, изображение петли-окружности рассматривалось как знак верховного бога Рода, создателя Вселенной. Отсюда же появился и сюжет про клубок, полученный Иваном-царевичем от Бабы Яги, чем-то подобный клубку, полученному Тесеем от Ариадны – для того чтобы по нити найти дорогу.
В центральной роли сказок рус. цикла фигурирует Иван-царевич, т. е. принц, царский наследник (аналогичный караханидскому Арслан-тегину; «тегин» – принц). Его парным персонажем служит то Елена Прекрасная, «списанная» из греко-троян. цикла, то Василиса Премудрая – от слова «базилисса» (царица, императрица), то Марья Моревна – женская ипостась умирающе-воскресающего божества, синоним др.-греч. Персефоны (от названия Борисфена/Бористена, т. е. Днепра); на восточных (семитских) языках «мар» – «сиятельный, светлый», ассоциируемый с понятием «господин, сиятельство, святейшество, светлость». Кащей (Хаос) в данном случае выполняет роль подземного Аида, Марья Моревна – богини весны и плодородия, Иван-царевич – героя, спустившегося в царство мёртвых (своего рода Гильгамеша, Геракла).
3-головый Змей Горыныч (от греч. «Крон», а не рус. «гора») – не кто иной, как синкретическое чудовище хаоса, страж мира мёртвых, дракон, др.-рус. вариант греч. 3-голового же Цербера, стража подземного царства; с ним борется «культурный герой», которого в рус. сказках играют то Иван-царевич, то интересный персонаж Матюша (Матвей или финно-карель. Матти) Пепельной (т. е. «горевший» – от слова «пепел»).
Более подробно об этом персонаже можно узнать из б.-вост. образа. В месоп. мифологии Нин-Ги (ш) зида (приставка «нин» первоначально обозначал богиню) – хтоническое божество, сын бога подземного царства Нин-Азу. Нин-Гишзида был назван «господином стойкого дерева», возможно из-за того, что корни, благодаря которым деревья поддерживают своё существование, растут в подземном царстве. Он сторож злых демонов, сосланных в подземный мир, страж (вместе с Думузи/Таммузом/Таму/Адамом) небесных врат бога Ану. В месоп. тексте, посвящённом Ур-Намму, супруга Нин-Гишзиды – Азимуа, в лагашском круге богов – Гештин-Анна. Символом Нин-Гишзиды был дракон, которого астрономы Месопотамии видели на небе в одном из созвездий. Позднее греки назвали это созвездие Змеёй. Символическое животное Нин-Гишзиды – рогатая змея. Не исключено, что Нин-Гишзида, подобно своему отцу, является также богом-целителем, о чём свидетельствуют и его хтонический характер, и изображение змеи при нём.
Легко находят свои аналогии в древ. мифах и др. легендарные сказочные персонажи.
Жар-Птица – образ всё того же сгорающего и возрождающегося Феникса Древнего Востока. Но вот появление «жар-птицы» обязано не термину «жар» (в смысле «огонь»), а древ. божеству, привнесённому на Б. и Ср. Восток под именами Шары (ассир.), Сары (евр.), Сара-свати (Заря Светлая, индо-арий.) – племени ижора/ижера, легшему в основу переосмысленного тюрками термина «жэр» (Небо) – то бишь, божественная «небесная птица» «Верхнего мира». Кроме того, этноним ижоры мог лечь в понятие «щур/чур» – предок. Но это слово скорее связано с именем арий. бога Сурьи – Солнца. В т. сл. можно даже идентифицировать Сара-свати с богиней Ардви-Сурой Анахитой («арийской богиней Солнца» Анахитой/Анаит).
Кот-Баюн (где «баюн» – от греч. «пэан» – певец, рассказчик, откуда рус. Баян) – поэт, певец (от названия балканской области Пеония). Он «баит», т. е. поёт, рассказывает заклинания, священные тексты, «байки».
Сивка-Бурка или Конёк-Горбунок как персонажи очень любопытны. Сивка-Бурка – сиво-бурый/каурый (бурый/каурый – цвет пламени, сивый/белый – цвет потусторонних существ, потерявших телесность) проводник в Царство Мёртвых. В Коньке-горбунке есть древ. первооснова от… верблюда. Маленький конёк, по сути – пони, так же как осёл – редкость для В. Европы той эпохи. Недаром в сказках он изображался длинноухим. Но «горбатый конь» – это верблюд.
Серый Волк – один из древ. тотемов тюрков (восточные из которых относились к угор. гаплогруппе N1c, восходящей к территории Тувы, как совр. якуты, и изначально, до тюркизации, говорили на угорских языках) и истор. монголов (Бортэ-Чино – букв. «серый волк»).
В ряде сказок детей посылают на верную смерть в лес. Как правило, детей уводит в лес отец, даже тогда, когда это делается вопреки его воле, по наветам злой мачехи. Однако в реальной жизни у многих народов детей уводили на мнимую смерть, для посвящения.
В сказках царских дочерей часто прячут в высоких башнях (теремах). Здесь также нашёл своё отражение обычай отдавать царских детей в посвящение богу или в жреческое сословие, и, соответственно, помещать их в храмах (например, в Месопотамии – наверху зиккуратов, верхнем помещении). В подобных же пирамидах-зиккуратах помещали и мумии усопших, в т. ч. «спящих» цариц (царевен). Сказка о «спящей царевне», умирающей от яда (из яблока или на кончике веретена) тоже имеет объяснение: по-видимому, здесь нашли отражение представления о том, что мумия может в будущем обрести новую жизнь, и восходит к обряду мнимой смерти, смены имени, для того, чтобы можно было выйти замуж за жениха из другого рода/племени и забыть прошлое. Поэтому и жену сказочные герои ищут непременно вдали: это отголосок экзогамии – запрета жениться внутри рода.
В ряде сказок цари противятся выдавать замуж своих дочерей, придумывая испытания женихам, которые порой становятся царями, убивающими своих предшественников-тестей. Но и в действительности существовали обычаи убийства правителей. Порой в сказках царём становится убийца (или, мягко говоря, победитель) своего предшественника: вспомним мифическую историю Тесея в Элевсине, где произошёл его поединок с Керкионом. В Анголе царь, начавший стареть, обязан был погибнуть в битве. В древ. Швеции цари правили только 9 лет, а потом их убивали. Позднее правители, чтобы избежать смерти, заменяли себя на троне на неск. дней преступниками, которых казнили как наст. царей. Отсюда и идёт поговорка о «халифе на час». Видимо, в дальнейшем т. о. власть утратила свою сакральность.
Чтобы попасть в тридесятое царство, герой велит зашить себя в шкуру (или заворачивается в неё), потом появляется большая (гигантская) птица и перетаскивает его по назначению. Но ещё и сейчас кое-где (на Кавказе, Памире) трупы умерших зашивают в шкуры, чтобы миф. птица (Рух) унесла их в царство мёртвых. Так поступали и древ. иранцы.
Иногда герой летает верхом на орле. Подобным же образом летал на «Небо», к богам, и шумер. герой Этана. На птице Гарутмат-Гаруде летают и персонажи индуистской «Махабхараты».
В этих сюжетах уже чувствуется заимствование из восточных сказаний, но в то же время они зачастую имеют северные корни.
Интересна сказка об острове Буяне, под которым щука лежит или стоит, но не плавает. Иногда ей придаётся эпитет «золотая». И ассоциируется она нередко с китом, т. е. налицо прообраз 3—4 китов, держащих землю по древнему поверью. В Вавилонии, к слову, земля изображалась покоящейся на гигантской рыбе. Сам же остров Буян называется Белым камнем на «окиян-море». На нём же находится «бел-горюч камень Алатырь», таинственный, «никем не ведомый», который, очевидно, являет собой устойчивую и непоколебимую основу мира, и в котором виден прообраз европейского христианского Грааля. Здесь же, на Буяне, находится и «дуб мокрецкой» (т. е. сырой, а, следовательно, живой, растущий), который во всех четырёх сезонах «ни наг, ни одет». В нём легко угадывается «мировое древо» – егип. сикомор, сканд. гигантский ясень Иггдрасиль, инд. баньян.
На Буяне живёт и «инорокая» (т. е. особенная, необыкновенная, очевидно, размером) змея Гарафена или, иначе, Скоропея (имя которой близко егип. «солнечному» скарабею), идентичная сканд. безымянному змею в корнях «мирового древа». Священные птицы Буяна – Сирин (т. е. полуженщина-полуптица сирена др.-греч. мифологии, хищница, заманивающая своим пением мореходов) и Алконост. Упоминается в рус. сказках и р. Ярдань, в которой сразу же угадывается б.-вост. Иордан (греч. – Южный Эридан), но это уже – христианское веяние.
Из сказок известна и некая Стратим-птица, в которую, по поверью, якобы, мог превращаться Стри-бог (эпоним ряда народов Прикарпатья и Балканского п-ова). Ещё одна птица, птица мудрости, именуется Магай/Нагай (от понятия «маг», т. е. «чародей», или «наг» – змей).
Ледь-река – это др.-греч. Лета, огненная река забвения в царстве мёртвых, Аиде, ассоциируемая с рекой Смородиной – но не от растения смородина, а от слова «смрад» – поскольку именуется огненной, чёрной, смоляной (таковы же Стикс, Ахерон, Коцит тех же мифов). Она находилась в стороне запада и разделяла мир живых и мёртвых, мир людей и нечистой силы. Река Смородина огненная, потому что мир мёртвых – мир душ, тонкой материи, что и остаётся от живого человека, его плоти после прохождения через огненный поток, поскольку наши предки сжигали своих покойников, чтобы быстрее уничтожить плоть и высвободить душу. По мифологии, для того, чтобы очиститься, необходимо пройти через огонь. Через Смородину был протянут «калиновый мост», но опять же не от слова «калина», а от слова «калить» – т. е. раскалённый (калёный) – или «медяной» (медный, металлический).
Представление древних о мире, в т. ч. «славян» и русских было следующим: что он состоит из 3-х ярусов – верхнего, божественного – «Неба», среднего, людского – «Земли», и низшего, подземного – «того света». Считалось, что небесный мир богов лежит через восточные земли, поскольку на востоке восходит Солнце. Запад считался страной зла и мрака: там заходило Солнце.
Своя первооснова есть и у ковра-самолёта, и у скатерти-самобранки, и у гуслей-самогудов, и у меча-кладенца – священных божественных богатств, достающихся в наследство людям.
Рус. «ковёр-самолёт» вероятно родился из арийских преданий, сохранившихся в индуистской литературе (трактат «Виманика-шастра»), где сообщается о виманах – летательных аппаратах древ. героев.
По древ. поверьям, в заповедной стране (Беловодье), стране богов (Ирии), текут ключи (реки) с мёртвой и живой водой. Любопытен миф о мече-кладенце (от слова «клад»). Пришёл он от кельтов, предки которых жили в Приуралье, Поволжье, Предкавказье и в С. Причерноморье, у которых был известен бог Нуаду (в Ирландии; он же – валлий. Нудд, брит. Ноденс, связанный с культом воды и источников, что прямо роднит его с этрус. владыкой моря Нетуном/Невтоном и рим. Нептуном), из Племён Богини Дану (туата де дананн), который в Первой Битве при Маг Туиред потерял руку, сражаясь с народом Фир Болг (Люди Болг). По одному из поверий, от него происходили все ирландцы, ибо он был правителем Племён Богини Дану (идентичной одной из пра-матерей богов инд. эпоса). По легенде, они принесли с неких «Северных о-вов» из города Финда – одного из 4-х – где постигали премудрость, магию, знание друидов, чары и прочие тайны, меч Нуаду, который, стоило вынуть его из ножен, был воистину неотразимым и никто уже не мог от него уклониться. Восходит же этот миф, как видно из вышесказанного, не только к этрускам, а ещё к древней М. Азии, к Трое. Попасть в Россию он мог только одним путём – вместе с переселившимися из Ирландии или Британии народом, поскольку в Британии в легенде о короле Артуре, говорилось о том, как он унёс волшебный котёл (сосуд или Грааль) и чудесный меч у Нуадды, или Ллида, владыки потустороннего мира (впрочем, А. С. Пушкин, написавший «Руслана и Людмилу», по-видимому, пользовался какими-то тюркскими, караханидскими преданиями об Арслан-тегине (Еруслане-принце), который у него превратился в Руслана, нашедшего меч у живой головы).
Говорящая голова (в пушкинской поэме «Руслан и Людмила») также имеет аналогии в Ирландии. И шире – в кельт. мифологии, где отрубленные говорящие или пророчествующие головы считались вместилищем духа и жизненной силы и нередко представлялись в виде божества: так, например, герой Мак Кехт («сын силы»), один из правителей Племён Богини Дану, внук Дагды (рус. Даждь-бога) возрождает голову короля Конайре.
Здесь, кстати, легенда о мече пересекается с легендой о чудесном котле, в Ирландии известном как котёл Дагда или Бухета, от которого никто не уходил голодным, сходным с рогом Брана (божеством Уэльса, тождеством Перуна). И хотя в России нет аналогий ему, в Европе они ещё бытовали, как, возможно, и у тюрк. племён, поскольку Дагда – по-татарски – Токтай. В рус. традиции, однако, есть скатерть-самобранка, функционально аналогичная волшебному котлу – прообразу Грааля.
У многих народов есть мифы о самозвучащих (т. е. программно-механических) музыкальных инструментах, наиболее популярными из которых на Руси были волшебные гусли и свирель. Так, в той же ирланд. мифологии известен арфист Круйтине/Крайптине (эпоним пиктов-круитней, буд. ю.-слав. хорутан, предков русин. куртаков), чья музыка т. н. «прорезной арфы» имеет магическую силу и может навевать смертный сон.
Не сложнее и вопрос о сапогах-скороходах: они имеют вполне реальный прототип – ходули, применявшиеся, к примеру, в Шотландии (а скотты/шотландцы – выходцы из С. Ирландии) для перехода через реки, а в Бретани – для ходьбы по песчаным дюнам. Шапка-невидимка – образ, также явившийся к нам из кельто-ирланд. мира, где способность становиться невидимым для людей приписывалась сидам (ситхам Шотландии) – обитателям «полых холмов».