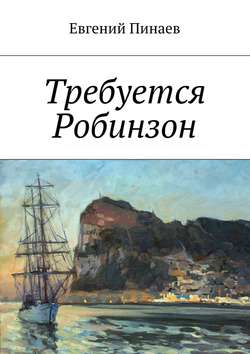Читать книгу Требуется Робинзон - Евгений Иванович Пинаев - Страница 13
Шхуна «Maggie May»
11
Оглавление– Таким, друзья мои, был «исторический материализм» применительно к отдельно взятому мореплавателю, – закончил рассказ Константин.
– И ко всем прочим, мыслящим не исторически, – заметил Генка-матрос. – А теперь пребываете на пепелище?
– Неужели заметно? – улыбнулся Константин.
– Читается между строк. Я, Константин-тиныч, снимаю шапку перед вашим прошлым. Но картина эта мне знакома до пошлости. Признаюсь вам, наконец, что выперли меня из универа за вирши, которые наш маленький «зозульчик» передал в ректорат. И ладно еще, что выперли, а не препроводили их по инстанциям.
– А ты, Генка, прочти их Константинычу, – предложил Проня. – Пусть оценит.
– Действительно, – кивнул Константин. – В обмен на мою откровенность.
– Ну, что ж… Слушайте, товарищи потомки, агитатора, поэта, главаря!
Где-то растут березы, ели к реке сбегают,
Сено жуют коровы, наземь слюну пускают,
С ласковостью коровьей лижут теленка в стойле,
Думают по-коровьи о бугаях и пойле.
Это – судьба. Простая. Наша судьба – иная,
Но странно видеть в них сходство коров и советских людей.
Простых трудяг и ученых, в социализм вовлеченных, Волею большевистской загнанных в стойло идей.
Генка-матрос – бывший студент с недавним армейским прошлым. Парнюга своеобразный, но с характером… Генка стишки пописывает, по девкам шляется. Ему жизнь на шхуне – малина. Говорит, что пока другой не нужно. Блудит где-то в городе, на судне лишь отсыпается во время вахты. Проспится и третирует своего капитана всякой вульгарщиной.
– Да ты, Гена, диссидент! – засмеялся Константин. – Это всё?
– Почти. В апофеозе есть нехорошие слова. Как вы? Читать?
– Мы же не в детском саду! На палубе свой язык, – ответил Константин. – Хотя теперь он распространен повсеместно.
Мы жвачку жуем, тоскуя, и носим ярмо до х…,
Над нами, идеи штампуя, жирует орава блядей.
Ах, нам бы из стойл да к елям, в березовый шум, к метелям!
А нас – по ноздрям и – в стойло, к навозу или на бойню,
На мясо и на колбасы, во имя великих идей.
– Да-а… крепко ты засандалил! Афганцы вдохновили? – спросил Константин.
– Афган. Я побывал там, Константин-тиныч, «во имя великих идей», там окончательно прозрел и окончательно разлюбил «исторический материализм». Давайте помянем тех, кого доставили оттуда на «черных цветочках»…
Пить Константину не хотелось, но отказать Генке он не мог.
Они подняли стаканы, молча посмотрели друг другу в глаза и выпили.
– Между прочим, и Проня там дырку получил, – сказал Генка, зажевывая водку корочкой хлеба, натертой чесноком.– Нет-нет! Мы были в разных местах, а вместе, когда из госпиталя в дембелях оказались, – объяснил, поняв немой вопрос в глазах Константина. – У каждого – свои дырки. Сувениры на память о славных днях.
– Я его и выписал на шхуну, – сообщил боцман. – С тех пор и держимся вместе.
– Пока держимся, а дальше – мрак! – сказал Генка, разливая остатки водки.
– Между прочим, – сказал Проня, – у нас в «Югрыбе» тоже есть Зозуля. Замначальника управления по кадрам. Тоже, говорят, тот еще тип. Неужели все Зозули на один лад?
– Не Зозули, Проня, а особая порода людей, выведенная путем партийной селекции на просторах родины чудесной, – ответил ему Константин. – Во всяком случае, ни тебе, ни Геннадию такое будущее не грозит. Уж кто-кто, а ты, действительно, «дитё человеческое», как говорил наш уважаемый Петр Петрович.
В голове Константина была каша. Не мог представить красавчика-купидона, который и на палубе выглядел как-то несерьезно, с автоматом, в каске, где-то в горах, раскаленных зноем и взрывами, куда-то бегущим, в кого-то стрелявшим, а потом в крови, на руках товарищей или санитаров: «исторический материализм» в своей сокровенной сути! Всё, что было с ним, даже пережитое когда-то на далеком островке, где он потерял двух товарищей и откуда сам-то выбрался чудом, к тому же затертое временем, выглядело детской забавой. Ладно, хорошо – не забавой: тот ураган, что там ни думай, как ни считай, не забава, но это часть его профессии, выбранной добровольно и по велению сердца. Каждый моряк знает, что может и он когда-нибудь не вернуться с морей, но эти! Отец погиб на крымской земле, защищая родину, а что защищали эти парни и от кого защищали в чужих горах?
Он ушел в свой «пенал» и лег на койку. Думал о том, что они, бывшие солдаты, вдруг стали обращаться к нему на «вы», и думал о том, что ничего не забыл из того, что было когда-то с ним. А они уже «забыли». Проня говорил о чем-то, связанном с каким-то недоразумением во время последних съемок фильма, Генка-матрос смеялся и предлагал сходить в магазин за водкой. Потом они ушли, сказав, что скоро вернутся.
Он кивнул и остался лежать.
У них свое прошлое, у него свое. Может, зря он рассиропился и ударился в воспоминания? Что в них? Труха. Зозулю вспомнил и только лишний раз потрепал себе нервы. Его поколение не знало сомнений. Почти не знало. Были единицы, что пытались плыть против течения. Остальные твердо шли по тропе, протоптанной старшими товарищами. Они тоже делились на идеалистов и циников. Идеалисты прозревали постепенно, а познав истину, замыкались, зная, что против лома нет приёма, да и приручены были. Приручены и приучены. В училище он, Костя Старыгин, маялся и метался, но в училище не любили «политику», а вколоченное годами держалось крепко, тем более что дни были отданы учебе, а вечера – танцулькам и «орбите» между киношкой «Заря» и парком культуры, где встречались и общались все курсы мореходки. Был у них даже свой «король танго» – Яшка Эрезсарцев. И это при том, что каждый понимал: загранвиза, на которой зиждется их будущее, в руках тех, кто не прощает вольностей по отношению к власти: «молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои». В любом случае, мысль, изреченная тобой, есть ложь, но истина – у той стороны, надзирающей и бдящей.