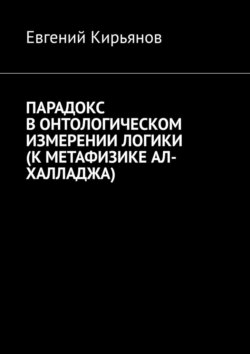Читать книгу Парадокс в онтологическом измерении логики (К метафизике АЛ-ХАЛЛАДЖА) - Евгений Кирьянов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Эмпедокл
ОглавлениеЯ попробую высказать некоторые соображения о том, что именно утверждал в своих мифо-поэтических речениях Эмпедокл. Я не буду в полной мере отождествлять свои представления о сущем и самом Бытии с тем, что он утверждал, но и не буду их противопоставлять. Так проще будет высказывать предположения в большей свободе от груза чрезмерной ответственности за свои слова о том, что заслуживает самого трепетного отношения. Это так потому, что даже не отождествляя вполне своё мировоззрение с мировоззрением Эмпедокла, я почитаю его как того, кто есть одна из вершин в проникновении в тайны Бытия.
По мере моей необходимости я буду иногда ссылаться на фрагменты его текстов. Главным для меня было найти эпицентр того вулканического процесса, которым представляется его мысль.
Эмпедокл с особенной страстностью и убеждённостью повторяет свою идею о том, что всякое сущее неуничтожимо и не имеет начала в своём существовании. И в то же время он не обинуясь говорит о смерти и разрушении, царящих в мире.
У нас остаётся для понимания его слов только один вариант. Тот, в котором сущие разделены на две группы. Те из них, которые составляют неуничтожимые основы для мирового процесса глобального смешения, и те, которые являются, фактически, фантомными сущими в сравнении с первыми, из смешения которых возникают, потом распадаясь, эти фантомные сущие. Но Эмпедокл настаивал на том, что никакое сущее никогда не утрачивается. Разумеется, нам необходимо упраздниться от напрашивающейся тривиальной идеи, что сущее сохраняет свою «этость», распадаясь и включаясь в состав иных сущих. И ведь тогда бы, кроме всего прочего, это означало бы, что таковое иное сущее либо только что возникло, либо всегда было в предожидании своего осуществления в «этости». Но ведь «этость» и есть при-сущность Бытия. Значит, для гарантированного осуществления себя в Бытии такое сущее от века и навсегда должно было качествовать в «этости». Причём, никакое не может быть исключением для действия этого универсального принципа. Это следует и из интенсивности постоянного переживания факта умопостигания универсального принципа и как утверждения всякого положения о сущих в их единстве. Здесь следует заметить, что Эмпедокл утверждает и тождественность первичных составляющих всякого смешения – четырёх стихий. А вращение в круге символизирует вмещение в фактуру смешения цикличности возвращения к уже бывшему.
26. Симплиций phys. 33, 18. Немного же дальше
(после ст. 21,12) он говорит:
(Пер. Э. Радлова) «Они господствуют
попеременно в течение круга,
То исчезают один в другом, то возрождаются в
роковом возврате.
Они тождественны, проницая друга друга;
Они образуют людей и различные племена
Животных»
О том, как это возможно понимать, я писал в комментарии к фрагменту «Тимея» Платона. Значит, мы должны осознать тот факт, что всякое сущее всегда сохраняет свою при-частность Бытию в явленности своей «этости». Как же совместить неразрушимость уже наличествующего сущего с неизбежностью его распада? Ведь для человека критерием и парадигмой всякого уничтожения является неизбежность того, что переживается им как предельная выявленность торжества абсолютного уничтожения – смерти.
Для понимания возможности такого положения вещей следует признать, что Эмпедокл отнюдь не отрицал, но, скорее, утверждал безусловность осуществления всегда всякой возможности существования всякого сущего. Это можно усмотреть в утверждении о том, что универсум сущих не допускает пустоты. Разумеется, таковое утверждение можно воспринимать как указание на отсутствие пространственной пустоты, но контекст сказанного заставляет нас предположить, что если это и так, то только в порядке иносказания для универсального представления о невозможности отсутствия какого-либо сущего. Язык Эмпедокла предельно насыщен символикой. Там где он говорит об универсуме:
«Равный себе самому отовсюду был шар или Сферос»),
необходимо понять, что равенство себе самому отовсюду именно шара есть иносказательное утверждение о его абсолютной простоте и отсутствии в нём ограничения частичности. Всякая его часть есть он сам. Он прост и неразложим, но включает всю полноту многообразия возможностей осуществления. В нём угадывается аналогия с Хаосом, о котором я писал прежде. Но фактура умозрительного воспроизведения смешивающихся в единство и распадающихся во множественность сущих вызывает к усмотрению его аналогии и с Уроборосом.
Также можно вспомнить фрагменты из моего опуса О СОЗНАНИИ, где речь идёт об альтернативных реализациях в пересекающихся мирах, составляющих в целокупности весь универсум. Факт частичности одного сущего в другом имеет неабсолютный характер, а является следствием принадлежности миру соответственно его презентации в универсуме. Таким образом, само смешение в универсуме сущих есть результат их частной соотносимости, обусловленной своеобразием их вложенности в тот или иной мир упорядоченных взаимоотношений между сущими.
В темпоральном изменении самоосознающее сущее эволюционирует в своей «этости», утрачивая свой статус априорной заданности её в аксиологическом измерении. Но это так в мире сохранения целокупности проявлений сущего в его темпоральном изменении. Это так в скольжении по времени. Но в скольжении по мирам «этость» сущего может обретать постоянство. В своей реализации в универсуме сущее может присутствовать и в изменчивости «этости» в скольжении – эволюции по времени, но и в постоянстве её в скольжении по мирам. Разрушение во времени и уход в иные миры – одно и то же. Разрушающаяся «этость» есть остаточный след уходящего сущего. А миры, это «срезы» универсума в свете самосознания, заимствованного в Сверхсознании Сверхсущего. Об этом я тоже писал в О СОЗНАНИИ.
Сказанное выше и означает, что всякое сущее не погибает, а ускользает в иные миры, сохраняя свою «этость». Это и есть существенная посылка Эмпедокла. Для подтверждения её можно здесь привести следующую цитату:
(Пер. Г. Якубаниса) «Но скажу тебе другое: из
всего тленного ни у чего нет ни рождения, ни какого-
либо предела губительной смерти, но есть лишь
смешение и различение смешанного, у людей же
(оно) называется рождением»
(Объяснительное примечание Г. Якубаниса: «Διάλλαξις>>
значит именно «различение», «размещение», а не
«разделение», как обыкновенно переводят. Этот оттенок очень
характерен: он прямо указывает на процесс, которым Вражда
выводит стихии из смешанного состояния безразличия». )
Это значит, что в универсуме присутствует всякая конфигурация сущих в каждый момент. И это разнообразие инициировано абсолютной полнотой всевозможностей освещённости сущих в свете Сверхсущего. И обретения ими всякой «этости». Выявления их в различение.
В этом выражается сверхзаконный потенциал Логоса, не подвластный никакому априори заданному порядку. Но об это я тоже писал прежде в фрагменте о Хаосе.
«Купно тогда одинокие члены сошлись, как попало,
Множество также других прирождалося к ним беспрерывно.
61. Множество стало рождаться двуликих существ и двугрудых,
Твари бычачьей породы с лицом человека являлись,
Люди с бычачьими лбами, создания смешанных полов:
Женской природы мужчины, с бесплодными членами твари».
Выше я уже писал, что актуальна в этой символике цикличность в возвращении к уже бывшему. Это означает, что миры, как «эти» сами по себе сущие, тоже изменяются, «скользя» в темпоральности, но восполняют это своё разрушение, сохраняя постоянство в собственном скольжении в мирах и проницая их. Но в неразличении в смешении и в восстановлении в единстве присутствует свобода смешения и в их пересечении. И всякое сущее в своей «этости» может наследовать её в смежных пересекающихся мирах. Это есть рождение сущего в мире (уже где оно присутствовало прежде) с наследованием уже бывшей прежде «этости»:
117. Был уже некогда отроком я, был и девой когда-то,
Был и кустом, был и птицей и рыбой морской, бессловесной.
И необходимо ещё раз подчеркнуть, что потенциал повторяемости и цикличности содержится не в случайности, а в том, что всякое сущее существует всегда в странствии своей «этости» по всевозможностям Универсума. Но опознаётся это и переживается как факт самоосознающим сущим именно как эксклюзивная посылка Бытия. И это потому, что все остальные осуществлённости в универсуме переживаются сущим только как возможности, находящиеся в области фантазии. Потому и представляется переживаемая реальность как непрерывная связь событий, которые в такой связи находятся только потому, что выражают её как некое совокупное сущее. Оно ведь и таковым может быть во всевозможных сущих универсума. Не празден вопрос и о том, насколько подобное видение реальности соответствует самой реальности. Но следует заметить, что частностью самого изложенного взгляда и является предпосылка видения именно в предельной символичности. Нужно принять, что любая «модель» реальности есть частное и даже альтернативное представление этой реальности, которая сама по себе не терпит никаких ограничений в частном логосе. Но это же есть и свидетельство о присутствии потенциала безусловности отражения этим символом некой грани присущего реальности осуществления в причастности Бытию. Глубина и сущность символа в том, что он своею оформленностью выражает не специфику оформленности символизируемого (даже и приближённо), а схватывает один из импульсов (посланий, манифестаций), посылаемых этим таинственным образованием, которое и есть совокупный мир.
И это потому, что ВСЁ может быть только НИКАКИМ. Но в при-частности Бытию сущее в своей «этости» тоже наследует потенциал НИКАКОГО и в этом смысле имеет модус ВСЕГО. И во всём этом нет агностицизма, поскольку вопрос о непознаваемости даже не может быть поставлен. Ведь черпается потенциал ВСЕГО из НИЧТО. Мы не должны рефлектировать ни на какое подставное, интуитивно подозреваемое сущее, предлагаемое нам нашей уже осуществлённой фантазией в качестве претендента на непознаваемость.
Сказанное и выявляет степень соотносимости вышеизложенной идеи с христианством. Здесь возможен только акт парадоксального выхода за пределы тех безграничностей, которые узурпирует всевозможность без границ. Этот трансцендентный акт возможен, если возможен, только в снятии привязанности сущего в самоосознании к наличной этости и погружении в новую безграничность, безграничность Сверхсознания.
Но здесь следует поставить точку, поскольку актуальный вопрос о сохранении в акте спасения в христианстве требует погружение в проблематику, выходящую за пределы темы об Эмпедокле.