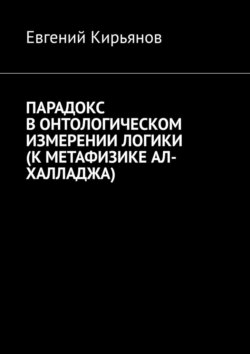Читать книгу Парадокс в онтологическом измерении логики (К метафизике АЛ-ХАЛЛАДЖА) - Евгений Кирьянов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Цимцум
ОглавлениеЯ этот текст буду насыщать смысловыми оттенками так, чтобы он постепенно приобретал всё большее соответствие тому, что я предчувствую как существенно затруднительное для понимания. К сожалению, мне самому в нём не всё понятно. Например, я порядочно мучился, пытаясь понять, как вообще конечное может быть порождено тем, в чём нет ничего конечного. И мне не удалось это пока вполне. Я так понимаю, что конечное может получиться только как фикция. Оно само есть только обусловленная «дхарма». Это выразить у меня получилось. Но как оно, как таковое, приобретает потенциал для осуществления падения во множественность сущих, я пока не очень понимаю. И как, по существу, понять акт самоограничения и ухода в себя без космологических аллюзий и этических ассоциаций, но в актуальности самоограничения? Ссылка на Уробороса содержательна только на уровне принятого символизма. И мне не хотелось всё это делать на волне энтузиазма.
Самоограничение Сверхсущего. Символ конечного и выхода в конечное из бесконечного.
Сверхсущее не имеет атрибутов конечного, иначе бы оно было ограничено. Метафизическое бесконечное бесконечно во всём. Ведь оно просто и не допускает частичности, поскольку всякое ограничение есть уже утрата модуса бесконечности и составленность из частей, которые первичней составленного.
Для сотворения конечных сущих необходима универсальная парадигма для всякого сотворения конечного. Надо и осознать, что такое конечное. Но Сверхсущее не отделяет ничего как свою часть, будучи простым и не составленным из частей. Извечно конечного не могло быть. Для создания самого принципа конечного возможно только действие потенциала простоты и бесконечности в лишённости всего прочего. При этом свершение такого акта не может не быть в утрате бытия в сотворённых сущих. Они наследуют эту неполноту в своём парадигматическом прообразе – принципе порождения конечного. Ведь оно (конечное) возможно только как вторичное сущее – соотношение в самом Сверхсущем. Это есть проявление в действии самого Сверхсущего в аспекте его собственных безграничных возможностей. Уход в себя есть такое самоограничение, в котором принимает участие только само простое бесконечное. И это не предпосылка для творения, а первый и самый существенный акт творения. В нём уже полагается бездна между Трансцендентным и сущими.
Но что такое сами слова «уход в себя» и «самоограничение», как не гипостазирование свойственных человеку представлений, которым подчинены сообщающиеся с человеком сущие? Следовательно, нам необходимо взойти на тот уровень манифестации умопостигаемого, который обеспечит максимально универсальную модальность в понимании его. При этом мы, разумеется, должны озаботиться как сохранением пластичности и оперативности мысли в доступных для нас уровнях манифестации, так и постоянной оглядкой на тот факт, что мы, всё-таки, говорим о сакраментальном предмете только на уровне доступного нам символизма.
Мы можем попробовать выразить идею «ухода в себя», назвав это, например, рефлексией на себя. Но даже это общее положение о Сверхсущем несёт в себе заряд умаления Сверхсущего в его абсолютности. Но мы не можем шагнуть выше, поскольку максимум того, что мы сами имеем для себя от абсолютного, это частное рефлектирующее самосознание, подозревающее о своей возможной причастности к неизбежному и непревзойдённому Сверхсознанию в Абсолюте. Факт этой частной рефлексии мы и постулируем в распространении на универсальный Абсолют.
При этом мы располагаем перспективой не утруждаться поиском конкретики в выражении этой рефлексии в Сверхсознании Сверхсущего. Она не подвержена ограничениям различительности в себе, выражая собою и абсолютную свободу. Поэтому мы в условиях нашей ограниченности можем только признавать наличие у Сверхсущего всех возможных степеней свободы, нами умопостигаемых в множественности разносущности, но тождественных в Абсолюте.
Таким образом, мы можем, сделав себе единственную вышесказанную уступку, всё-таки, полагать, что в неразличимости в Абсолюте в его рефлексии на себя есть сразу все мыслимые нами возможности воздействия на себя вне модуса различения. Конечно же, Сверхсознание есть парадигма и самоосознания. Это, как выше было сказано, экстраполяция неизбежного в нашем опыте самосознания. Тем самым, оно «обрело» себя в себе, … «самоосознало», «усмотрело», «отобразилось» в себе… Оно «породило» себя,.. «исторгло» себя. Оно, наконец, «поглотило» себя. И в этой последней модальности присутствует возможность гипостазирования его в его ограниченности. Это – модальность его презентации в конечное,.. ограниченное.
Но это не часть Сверхсущего. У него, Бесконечного, нет частей. Но действия рефлексии в поглощении есть сами прообраз всякого конечного в его конечном существе. Это снижение от Сверхсущего в парадигму конечного допускает сразу возможность насыщения ситуации многообразием актуальных символов.
Это в самом вышнем смысле – самоограничение Абсолюта. Но нам не обязательно сохранять напряжённость непостижимости предстояния перед Абсолютом в рассмотрении природы вторичного (сравнительно с ним) предмета – парадигмы всякого конечного как сотворённого. Мы уже не раз касались актуальной для нас символики. Это, в данном случае, прежде всего – Уроборос. Поглощающий сам себя Мировой Змей. В этом акте утверждается насильственное умножение, двоение и разъятие сущего. Но это происходит только как падение во множественность. Рефлексия на это самосознающего сущего погружает его сознание в огненную пучину разъятия сущего. Его растерзания.
Восхождение же в осознании снимает модус различительности в сущих и в неразличительности и тождественности спасает их от насилия над ними. Мировой Змей, тем самым, распят в действии разъятия в Огне (Дионис, Пуруша, «Сеть Индры», …). Но он сохранён в единстве в сфере высшей неразличительности, где не царствует множественность сущих. В ней же Абсолют самотождественен в единственной абсолютной реальности, каковой является именно он сам. И сам символ, о котором мы говорим, универсален в том смысле, что указывает и на иные сакраментальные прообразы.
Адам… Он и есть тот прообраз самоосознающего конечного (и первое конечное), редукция которого на разных уровнях манифестации объективируется во множественности и разнообразии сущих.
И драматизм слияния в сущих модусов разъятия в огне и воссоединения в высшем свете присутствует на всех уровнях редукции в сущих, имея прообразом себя аспект жёсткости, присутствующий непосредственно в действии Абсолюта, связанном с его самоограничением и в нём выраженный. Это есть и прообраз действия суда над всякой тварью.
И ведь акт ухода в себя двояк. Он есть самоограничение, но, одновременно, и осуществлённость себя в безграничности в самой возможности включения в себя себя же безграничного. Каково же существо познания для сущих? Оно в утрате непосредственного восприятия себя в неподверженности распаду в распятии в огне и опознании себя в действии падения во множественность в образе….по образу Уробороса.
Также, об абсолютности Адама. О его предшествии разнообразию презентаций Сверхсознания в сущих. Это потому, что он и есть прообраз всякого конечного. Он и сам есть первичное конечное; но, в отличие от прочего конечного, человек в восхождении по лестнице редукции завершает его в непосредственном слиянии с Адамом, а вершины персонального восхождения иных сущих ограничиваются уровнем редукций. И только доля в Адаме даёт им участие в полноте возможного восхождения. Но уже не как самих себя, а как у-частников восхождения обобщённого человека.
Итак, этим действием – цимцум – создаётся сам модус частности и ограниченности. Сам образ самоограничения бесконечного и есть конечное и частичное. Но прообраз конечного (всякой твари) есть хоть и принцип конечного, но ещё и действие самоограничения бесконечного в себе. Это есть и усмотрение себя в себе. Оно и есть парадигма конечного. Но усмотрение себя в себе (рефлексия на себя) Сверхсущего есть прообраз всякого самоосознания. Таким образом, будучи одновременно и парадигматическим прообразом конечного, самоограничение Сверхсущего как отношение, свершающееся в себе самом, отражено в фиксации факта свершённости как полагание сознания, образа бесконечного, в конечное.
Это и есть Единственный. Но здесь он выявлен не в акте субъективного усмотрения его в себе осознающим сущим, а как прообраз отождествления космического конечного самоосознающегос субъективно усматриваемым сущим в «себе» Единственного.
Когда бесконечное удаляется в себя, то ничто никуда не удаляется. Ведь у него нет частей, поскольку тогда оно бы состояло из конечного. А когда конечное удаляется в себя, то освобождается его часть. Она в символике цимцум и есть место, которое получает сотворённое. Но как освободить это место в бесконечном его удалением в себя? Никак! Это бессмыслица. Но не бессмыслица не само освобождение в бесконечном, а освобождение как акт ухода в усмотрении по типу освобождения места в конечном. Самому акту удаления приписываем общность с тем, что для конечного есть освобождение места для творения. Ведь у нас нет иных предпосылок для усмотрения того, что имеет трансцендентную значимость, иначе, чем в использовании нашего потенциала умопостигания в нас таких, какие мы есть. А мы можем определить для вложенной в нас интуиции о конечном удаление в себя двояко. Как наличие освобождённого места при заполнености всего остального, так и просто действие удаления в себя. Для конечного это одно и то же, а для бесконечного имеет смысл только второй вариант. Мы ему и навяжем смысл «освобождения места» по ассоциации с конечным вариантом. И, таким образом, это и есть конечное. Актуально – сокращение бесконечного, но фиктивно – «освобождение места для творения».
Но уход в себя есть и рефлексия (я об этом раньше говорил). Она и есть самосознание бесконечного в модусе конечного. Это и есть Адам. Конечный, самоосознающий, первичное сущее,…
Можно вспомнить и об известном месте в «Тимее», где это в языческом снижении метафизического тонуса описывается как создание Души Демиургом в смешении сущего и иного. Адам – результат насильственного смешения. У нас это реализуется в навязывании паре Сверхсущее – Сверхсущее-удалённое-в-себя (в акте его удаления), природы сущего – субъекта. Но, поскольку это есть по природе не субъект, а межсубъектное отношение, то бытие такого конечного сущего не имеет полноты, а заимствует у источника бытия – Сверхсущего. Но об этом я тоже говорил.
Отделение от чего-то предполагает, что оно есть часть того, от чего отделилось. Но от Сверхсущего ничего не отделилось. Сверхсущее – субъект, а Адам – предикат. Предикат, ставший субъектом в свете Бытия Сверхсущего. В условиях, когда ещё не навязана сущим фатальная разделимость во множественности («дхармы» не имеют препятствий во взаимном переходе) в манифестации. Но Адам не имеет по природе собственной субъектности. Он её наследует в Боге, принимая от него бытие.