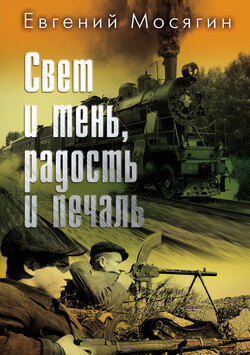Читать книгу Свет и тень, радость и печаль - Евгений Мосягин - Страница 2
Великая Отечественная война
Защитник Родины
Очерк
ОглавлениеИз нашего рода я остался последним из мужчин, что защищали в войнах Россию.
Дед Ефим был участником Русско-турецкой войны 1877 – 1878-го годов.
Трое сыновей деда Ефима были солдатами Первой мировой войны. Старший сын Николай погиб на фронте, средний сын Потап, инвалид Первой мировой войны, три с половиной года с 1914-го по 1917-й провел на передовых линиях боевых действий с немцами. Младший брат Иван вернулся домой живым и здоровым.
Трое сыновей Потапа Ефимовича участвовали во Второй мировой войне. Старший сын Алексей погиб в Великой Отечественной войне. Средний сын Федор, инвалид Великой Отечественной войны, всю войну находился на переднем крае, за исключением времени лечения в санбатах и госпиталях да трехмесячного срока обучения в 1942-м году на курсах младших лейтенантов. Третий сын – это я. Войну закончил живым и здоровым.
В 1943-м году, когда немцы уходили из нашего города, так получилось, что отца поставили к стенке сарая расстреливать. Немец поднял винтовку, мать бросилась на ствол, пуля пробила ей грудь навылет. Этим она спасла отца.
Военная судьба моего брата Федора Потаповича Мосягина началась в августе 1941-го года, а закончилась возвращением его в родной город через пять лет, в 1946-м году.
Первую малую кровь брат пролил в одном из боев в битве за Москву, а в битве за Берлин он получил тяжелейшие раны и выбыл из боевого строя. Между этими двумя великими сражениями Великой войны прошла фронтовая юность моего брата. В числе прочих наград за Великую Отечественную войну он имеет медали «За оборону Москвы» и «За взятие Берлина». Имеется у него еще пять нашивок за ранения: три желтых за тяжелые раны и две красных за менее тяжкие увечья.
Крещение войной
В первые дни после выступления Молотова, в начале войны, мой брат, как и многие его сверстники, подал заявление в райвоенкомат о призыве в армию. Тех, кому исполнилось 18 лет, призывали, а семнадцатилетних не брали. Но в первых числах июля этих, не призванных в армию, имеющих семилетнее образование, направили в Орловское пехотное училище. Таких в городе набралось 16 человек и среди них был мой брат. По прибытии в училище ребята начали сразу же сдавать экзамены, но через три дня пришел приказ из Москвы, и весь личный состав училища направили на фронт, а новое пополнение откомандировали в свои райвоенкоматы.
Немцы стремительно наступали на восток по территории нашей страны. Новозыбкову грозило окружение. 13 августа брат получил повестку из райвоенкомата явиться на призывной пункт, который располагался в городском саду. Здесь у него отобрали паспорт, оформили призыв в армию и отпустили домой до утра 15 августа. Было сказано, что все, призванные в армию пятнадцатого, уйдут из города вслед за отступающей Красной Армией.
К этому времени ситуация в городе сложилась критическая: в ночь с 15 на 16 августа немецкая авиация разбомбила железнодорожную станцию, а через два дня железная дорога на Брянск, Орел и на Москву была захвачена наступающей немецкой армией и город оказался отрезанным от центральных районов России. Свободным из вражеского окружения в результате этого оставался пока один только путь – в юго-восточном направлении.
Решение о выводе из Новозыбкова горожан призывного возраста и допризывников было совершенно необходимой акцией, только провести ее нужно было значительно раньше, когда была еще возможность воспользоваться железнодорожным сообщением. Причина, что это не было сделано своевременно, состояла в том, что в городе было запрещено готовиться к эвакуации и даже разговоры об эвакуации рассматривались как панические настроения, что, по постановлению горкома партии[1], считалось пособничеством врагу.
Утром 15 августа в городском саду было настоящее столпотворение. Женщины плакали, дети суетились, мужчины толклись, ожидая какого-нибудь приказа. Ждать пришлось недолго. Работник райвоенкомата, офицер по фамилии Зенченко, провел перекличку и объявил, чтобы призванные в армию прощались с родными. Где-то заиграла гармошка, раздалась какая-то надрывная песня, вскрикнула женщина. Мужчины с котомками на плечах двинулись к выходу из парка. Я был с братом, и самым неожиданным для нас было то, что Зенченко повел колонну не налево, из парка к озеру, через, базар и по Замишевской улице на восток из города, а направо, по нашей улице, мимо нашего дома в сторону Нового Места, то есть, прямо на запад. Почему на запад? Этот вопрос для меня остался нерешенным до сего времени. Изо всех направлений, по каким можно было уходить от наступающих немцев, это направление было самым губительным и смертельно опасным. Даже в то время нетрудно было правильно оценить существующую обстановку. Я далеко за город провожал брата. В Новом Месте новозыбковские мужчины весь день, до темноты, копали противотанковый ров. Ночью они видели, как немцы бомбили город. Наблюдая огненные всполохи в ночном небе, офицер Зенченко, командовавший новозыбковским воинством, наконец, принял правильное решение. Он построил колонну призывников и повел ее обратно в город. По улице Урицкого, через базарную площадь и Замишевскую улицу колонна пересекла город и вышла на дорогу в сторону Кривца и Великой Топали. Шли всю ночь, днем где-то отдыхали, а следующей ночью пошли дальше. Через двое суток они дошли до Стародуба. Это был самый опасный для них участок пути, хотя они об этом ничего не знали. 17 августа части 2-й танковой немецкой армии захватили город Унечу, а это всего в 30-ти километрах от Стародуба. Что стоило немецким танкам проехать эти лишние тридцать километров и войти в Стародуб? Сопротивления они бы не встретили никакого, наших войск на этой территории уже не было. Но вот почему-то немцы остановились в Унече, и это дало возможность новозыбковской колонне спокойно пройти этот роковой участок пути. А если бы не остановились немецкие танкисты? Об этом не хочется думать.
Дальше Стародуба путь новозыбковской колонны шел на Погар, Трубчевск, Комаричи. Шли только ночами, днем стояли в лесу. По пути колонна обрастала обозным имуществом и выходящими из окружения отдельными группами военных, отбившихся от своих частей. В Комаричах оставили местным жителям лошадей и телеги и с помощью местной комендатуры сформировали на железнодорожной станции эшелон, и на поезде двинулись на Курск и дальше на Воронеж, где военная комендатура направила новозыбковскую колонну на формирование в город Борисоглебск. В лесу на берегу реки Вороны новозыбковцы поставили шалаши и начинали налаживать гарнизонный порядок, но через двое суток их распределили по колхозам. Брат попал в село Калмык в колхоз имени Кагановича. На квартиру ставили по пять человек к местным жителям. Работали на уборке урожая. В средине сентября вернули всех в лес на берег Вороны, здесь уже были построены землянки. Весь личный состав обмундировали и распределили по подразделениям. Мой брат Федор Мосягин попал в школу конной разведки. В начале октября он принял военную присягу. Ему еще не было восемнадцати лет. Значительно позже он писал мне о начале своей службы в армии:
«Где-то к концу октября нас подняли по тревоге, построили и повели в Борисоглебск на вокзал, где погрузили в эшелон и повезли в Тамбов. Со станции пешим порядком нас направили в лес неподалеку от Тамбова, где в расположении воинской части шло формирование Первой Ударной армии. Я попал в 20-ю Особую Стрелковую бригаду. До середины ноября от рассвета дотемна проходили сплошные учения на местности. Потом эшелоном нас повезли к Москве. Разгружались на станции Химки. Не знаю, вся наша бригада или нет, но наш батальон попал на передовую на Истринское направление. Бешеными атаками и днем и ночью на нас кидались немцы. С нашей стороны было много потерь. Я был ручным пулеметчиком (ДП – Дегтярев пехотный). Одно время был слух, что нас отведут на другие более выгодные позиции, но этого не случилось».
Слух об отводе войск на другие позиции связан, видимо, с тяжелой ситуацией сложившейся на линии обороны двух стрелковых дивизий 16-й армии, которой командовал генерал-лейтенант Рокоссовский. Он обратился к генералу армии Жукову, командующему обороной Москвы, с предложением отвести войска на более выгодные для обороны позиции за реку Истру и Истринское водохранилище, что дало бы возможность с меньшими потерями держать оборону и даже высвободить некоторые подразделения для использования их на других не менее опасных направлениях. Жуков запретил этот маневр. «Стоять насмерть!», – приказал он. Неся тяжелые потери, дивизии 16-й армии остались стоять на своем месте.
Дальше в своем письме брат писал:
«Ночью четвертого декабря наш батальон сняли с обороны и прямо из траншей форсированным маршем гнали всю ночь в 1-ю Ударную армию в сторону Ленинградского шоссе. А 5 декабря, в день Сталинской конституции, мы пошли в наступление по направлению на Солнечногорск, Клин и дальше. Мы погнали немцев от Москвы».
В первое время наступления бои шли почти беспрерывно. В бою у какой-то небольшой деревни неподалеку от Клина пулеметчик Мосягин вместе со своим вторым номером поднялись для очередной перебежки вперед. И в это время пуля пробила брату валенок и касательно задела левую ступню. Брат почувствовал сильную боль, но нога нормально действовала, и он из боя не вышел. Когда выбили немца из деревни, санинструктору пришлось разрезать валенок на раненой ноге брата. Много натекло крови и больно было вытаскивать ногу. Пуля прошла по косой и зацепила кровеносный сосуд с внешней стороны ступни. После обработки раны и перевязки кровотечение уменьшилось, болело, но не очень, ходить можно было.
– Ты, малый, в рубашке родился. Попало бы пониже, и не было бы ступни. Костыль тебе на всю жизнь был бы обеспечен, – сказал Коровкин, немолодой колхозник из-под Рязани. Он таскал коробку с запасными дисками и был хорошим товарищем.
С ручным пулеметом Мосягину пришлось расстаться. Командир роты приказал передать пулемет красноармейцу Важаеву, а винтовку Важаева отдать Мосягину. Старшина роты из своих запасов подобрал для Мосягина подходящий валенок.
И остался боец в строю.
В конце декабря, когда успешное наступление Красной Армии отбросило немецко-фашистские войска далеко от Москвы, часть, в которой воевал брат, была снята с передовой, отведена в тыл и после переформирования направлена эшелонами на СевероЗападный фронт.
Та малая кровь, что была пролита братом под Москвой, к счастью, не стала солдатской раной.
Северо-Западный фронт
Отделение сержанта Сысоева стояло в боевом охранении на передовой линии фронта. Траншея, откуда велось наблюдение за противником, располагалась по берегу замерзшей и покрытой снегом неширокой речки. За речкой, за неширокой ее поймой, поросшей кустарником, стояли немцы. Неподалеку от траншеи, в нашем тылу, была деревня, в которой уцелело всего несколько хат. В хатах, сменяясь с боевого дежурства, отогревались бойцы. Та первая зима войны была очень морозная.
С продуктами и куревом в отделении было все в порядке, не было только спичек и, как на грех, ни один боец не обзавелся весьма популярной в первые годы войны «катюшей» – нехитрым приспособлением для высекания огня. У сержанта Сысоева оставалось в коробке всего три спички и, хотя он очень дорожил ими, одну из них пришлось потратить на то, чтобы развести маленький, почти бездымный, постоянно поддерживаемый костерок. С куревом и мороз вроде бы отступал, и время дежурства проходило веселей.
Немцы в основном вели себя смирно, но время от времени из малых 49-миллиметровых минометов обстреливали наш передний край. Во время очередного такого обстрела осколком мины ранило красноармейца Мосягина. Небольшой кусочек горячего металла пробил маскхалат, шинель, телогрейку, гимнастерку, белье и очень ослабленный врубился в спину. Раздеваться на морозе не хотелось и брату поначалу показалось, что повреждение спины незначительное, что он может перетерпеть и все обойдется само по себе. Но так только показалось, боль становилась невыносимой. С наступлением ночи отделение сменилось с дежурства и ушло на обогрев в одну из уцелевших изб. Брату помогли раздеться. Ротного санинструктора не было, он находился в других взводах. Сержант Сысоев выковырял из небольшой раны осколок и спину брату забинтовали индивидуальным пакетом. Несколько дней он проходил без перевязок, и ко времени, когда во взводе появился санинструктор, рана его загноилась. Правильная медицинская помощь дала хорошие результаты, и рана после нескольких перевязок начала заживать. Необходимость отправки в санбат отпала.
Отсутствие санинструктора объяснялось тем, что в других взводах у некоторых бойцов были обморожены пальцы на ногах и приходилось оказывать им помощь.
Ни на один день брат не оставлял строя и нес боевое дежурство наравне со всеми бойцами отделения. К весне обстановка на многих участках Юго-Западного фронта обострилась. В апреле шли бои за населенный пункт Ватолино в районе Старой Руссы, где была окружена 16-я немецкая армия под командованием генерала Буша. Красноармеец Мосягин к этому времени из стрелковой роты был переведен в роту автоматчиков при штабе 20-й Особой стрелковой бригады. Теперь он был вооружен автоматом ППШ с круглым диском на 71 патрон.
Бой за Ватолино был очень тяжелым. Рота автоматчиков почти обошла деревню, чтобы ударить по немцам с тыла, но была обнаружена и попала под сильный минометный и пулеметный огонь. Автоматчик Мосягин был ранен минометным осколком: острый кусок железа длиной с половину пальца воткнулся в лицевую кость под правым глазом. Брат сам выдернул осколок, кровь залила лицо, закружилась голова. Командир отделения крикнул:
– Тебя ранило! Ползи назад! Автомат давай сюда! Мосягин автомат не отдал, был приказ оружие на поле боя не оставлять.
– Ползи к кустарнику, там должен быть медпункт! – приказал сержант.
Медпункта в кустарнике не было. Внимание брата привлек негромкий стон, и, пробравшись через кусты, он увидел на земле незнакомую раненую медсестру. Ему показалось, что у нее перебито правое бедро. Она была в сознании. Сама спустила брюки и жгутом остановила кровь.
– Клади меня на плащпалатку, – сказала она, – и волоки к дороге, пока ты еще не потерял сознание. Рана у тебя опасная.
Из последних сил, временами впадая в забытье, Мосягин дотащил раненую женщину до дорожной колеи на краю кустарника. Их подобрал подвозчик снарядов, возвращавшийся с огневых позиций. На санях он довез раненых в деревню Теплынку, где располагался санитарный пункт. Медсестру увезли в тыл, а Мосягину сделали перевязку, и он пошел в свою роту. На другой день он принимал участие в строительстве моста через речку Ловать. Нес бревно с напарником, потерял сознание и упал. Санинструктор отправил его снова в Теплынку.
Начались скитания по госпиталям. Из Теплынки Мосягина направили в город Осташков, потом в санитарной машине вместе с другими ранеными перевезли в Нилову Пустынь, где раненых разместили по монашеским кельям. Отсюда многих раненых, в том числе и Мосягина, на теплоходе по Селигеру отвезли снова в Осташков, где раненых погрузили в эшелон по теплушкам и перевезли в город Максатиху. По дороге эшелон бомбили и все, кто мог, покидали вагоны. Даже один безногий как-то выбрался. Мосягин тоже пошел из вагона, но на выходе потерял сознание и очнулся уже на земле. На четвереньках он отполз в сторону от железнодорожных путей. Из Максатихи через неделю многих раненых перевезли в госпиталь в Ярославль.
Брат плохо запомнил медосмотр. «Трубку через нос», – резко командовал хирург и отдавал сестрам еще какие-то распоряжения. В конце осмотра скомандовал: «Готовить к операции!».
В большой госпитальной палате койка брата стояла у самой двери. Вечером к нему подошел незнакомый врач.
– Мосягин? – спросил он.
Брат ответил утвердительно.
– Потапа Ефимовича сынок? – спросил врач и, услышав утвердительный ответ, сказал. – Возрази против операции. Здесь нет специалистов по челюстно-лицевым ранениям. Я помогу тебе попасть на эвакуацию.
На другой день брата в санитарном поезде отправили в глубокий тыл, в город Анжеро-Судженск Кемеровской области. Ехали очень долго, но и на этом переезде госпитальные скитания не закончились. Из Анжеро-Судженска брата с несколькими ранеными прямо с вокзала на телегах отвезли в селение Мишиху в госпиталь, расположенный в бывшем доме отдыха. После непродолжительного лечения брата в сопровождении медсестры направили в Томск в военный госпиталь в глазное отделение. Здесь ему сделали операцию, чистили гайморову кость.
Ранило Мосягина 14 апреля, а выписали его из госпиталя через четыре месяца – 16 августа 1942 года и направили на пересыльный пункт.
Военврач, который помог брату получить правильное лечение раны, был хороший знакомый нашего отца, новозыбковский врач по фамилии Рапопорт.
На пересыльном пункте в Томске вдруг улыбнулась военная судьба моему брату. Его направили на обучение в офицерское Томское артиллерийское училище (конная тяга). Он сдал экзамены, но в самом начале занятий его перевели на трехмесячные курсы младших лейтенантов в эвакуированное в Томск Тульское оружейно-техническое училище с уклоном на легкую противотанковую артиллерию. Фронт постоянно испытывал недостаток младшего офицерского командного состава.
Дважды помеченный немецким боевым металлом, мой брат, рядовой солдат Федор Мосягин, к концу 1942-го года в 19 лет от роду получил офицерское звание младшего лейтенанта и вернулся на фронт. Наград у него не было, но на его диагоналевой гимнастерке были закреплены две нашивки – одна желтая за тяжелую рану и одна красная за легкое ранение.
Дорога на Берлин
Два года войны младшего лейтенанта, а потом и лейтенанта Мосягина прошли в передовых частях Красной Армии. Прежде чем занять должность специалиста по артиллерийскому вооружению, ему довелось побывать командиром стрелкового взвода, послужить офицером связи, а одно время он был командиром взвода конной разведки. К лету 1943-го года его перевели в полковую артиллерийскую мастерскую. Мастерская обеспечивала техническое обслуживание артиллерийского парка полка и постоянно находилась в непосредственной близости от огневых позиций артиллеристов. А поскольку артиллерия в полку в основном была противотанковая, то это и определяло близкое расположение мастерской от передовой линии.
О том, как воевал брат, могут в какой-то мере свидетельствовать некие официальные документы. В Великой Отечественной войне отличившихся в боевых действиях солдат сержантов и офицеров было принято отмечать объявлением «Благодарности» Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина. «Благодарность» представляла собой листок бумаги размером в половину писчего листа, красиво оформленный графическим изображением всяческой военной атрибутики с портретом Сталина в центре композиции. Текст был стандартным, сверху вписывалось воинское звание, затем имя и отчество награжденного. Ниже стояло: «Вам приказом Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина от [указывается дата] объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ за отличные действия в боях за освобождение города – [вписывается название города]». Вариантов не было, менялось только название города или объекта боевых действий. Благодарность подписывалась командиром части.
Лейтенант Мосягин Ф. П. получил восемь «Благодарностей»:
«За освобождение города Гомеля» – 14 ноября 1943 года;
«За прорыв обороны и форсирование реки Друть» – 25 июня 1944 года;
«За освобождение города Волоковыск» – 14 июля 1944 года;
«За освобождение города Белосток» – 27 июля 1944 года;
«За вторжение в южные районыВосточной Пруссии» – 21 января 1945 года;
«За овладение городом Вилленберг» – 23 января 1945 года;
«За овладение городом Мельзак» – 17 февраля 1945 года;
«За овладение городом Браунсберг» – 20 марта 1945 года.
Кроме выше перечисленных «Благодарностей», лейтенант Мосягин был награжден орденом Красной звезды. За все это время мой брат ни разу не был ранен, судьба хранила его, словно он уже оплатил своей кровью жестокий счет войны.
Последняя «Благодарность», полученная Мосягиным в Восточной Пруссии, отмечена двадцатым числом марта. После этого с 6 по 10 апреля брат принимал участие в жесточайших боях за овладение городом Кенигсберг. После взятия Кенигсберга воинская часть, в которой служил лейтенант Мосягин, была переброшена из Восточной Пруссии к Франкфурту-на-Одере, а затем в Германию на штурм Берлина.
Последний бой лейтенанта Мосягина
На юго-восточной окраине Берлина 24 апреля 1945 года соединились два фронта: 1-й Белорусский и 1-й Украинский – и рассекли вражескую группировку на две части; в результате чего главные силы 9-й армии и часть сил 4-й танковой армии немецко-фашистских войск были отрезаны от Берлина. В этих боях принимал участие полк, в котором служил мой брат. 29 апреля стало известно, что на Берлин со стороны Чехии движется эсэсовская группировка. Часть войск получила приказ развернуться на юго-восток от Берлина.
«Форсированным маршем мы двигались к месту назначения и во второй половине дня заняли оборону перед мостом, вблизи водной преграды в лесу, – рассказывал мне брат. – По пути следования разрозненные группы немцев пытались вступать с нами в бой, но серьезного сопротивления они не оказывали, так как в основном это были фольксштурмисты».
Лейтенант Мосягин получил задание вернуться на место прежнего расположения полка и забрать там временно оставленные из-за нехватки транспорта боеприпасы и команду охраны. С группой бойцов на нескольких конных упряжках лейтенант без особых трудностей быстро добрался до знакомого места. Бойцы погрузили снарядные ящики на подводы и, не теряя времени, двинулись в обратный путь. В сумерках выбрались на хорошую дорогу и пошли на рысях. Все складывалось нормально, но война полна неожиданностей. Впереди, на дороге, показалось рассеянное неяркое мелькание огней и послышался звук автомобильных моторов. Лейтенант приказал ездовым принять поближе к обочине и продолжать движение, а сам решил узнать, кто продвигается к Берлину. Он перешел дорогу. Было совсем темно. Механизированная воинская колонна быстро двигалась по дороге. Грузовые машины, крытые брезентом, мотоциклисты, на галопе несущиеся конные упряжки, всадники, – все это быстро проносилось мимо. Мелькнуло шальное предположение: «А может быть, кто-то из русских драпанул?». Он сигналил рукой пытаясь остановить какую-нибудь машину. О том, что это может двигаться немецкая колонна, у него и мыслей не было. Главное, что его беспокоило, так это предположение, что это его часть срочно меняет позицию. Это он и хотел установить. Машины проезжали мимо и вдруг один грузовой автомобиль с покрытым брезентом кузовом, неожиданно свернув к обочине, тормознул.
«Немцы!», – осознал лейтенант. Теперь он уже различал силуэты немецкой техники. Не отдавая себе отчета, зачем он это делает, не осознавая, к чему это может привести, он шел навстречу остановившейся машине и стрелял из пистолета по стеклам кабины. Немецкий автомобиль рванулся с места. Из кузова по лейтенанту ударили автоматные очереди, одна пуля задела правую руку чуть выше локтя, другой пулей его ранило в бедро левой ноги. Он упал на землю и быстро откатился в кювет. Пистолет, выпавший из раненой руки, но закрепленный на кожаном шнурке у пояса, оказался на земле рядом и лейтенант взял его в левую руку. Он пытался стрелять по колонне, пока не закончились в обойме патроны. Из одной машины по нему дали автоматную очередь и две пули вошли ему в правый бок. Теряя сознание, лейтенант услышал, что где-то поблизости началась сильная беспорядочная стрельба, но скоро стихла. Раненый в руку и в ногу с пулями в боку он лежал на земле и, приходя в себя, думал, что ему надо бы повернуться так, чтобы из него поменьше вытекало крови.
Когда начало светать, он очнулся. Двигаться он не мог, он только смотрел на шоссе. Через некоторое время он увидел, что по ближайшей к нему обочине дороги идут два немецких солдата и, тихо переговариваясь, ведут велосипед с прикрепленным к нему у руля белым флагом. Это было очень странно и он подумал сначала, что бредит. На всякий случай, он громко, как мог, закричал: «Ком, зольдатен! Ком!». Солдаты остановились, положили велосипед на землю и с опаской подошли к раненому русскому офицеру. Это были пожилые мужчины. Опустившись на колени, они бережно повернули лейтенанта на левый бок, расстегнули на нем шинель, задрали гимнастерку и принялись его бинтовать, но у них были бумажные бинты, очень быстро размокавшие от крови, и толку было мало. Лейтенант достал из кармана горсть патронов и знаками попросил немцев набить пустую обойму пистолета. Один из солдат выполнил эту просьбу и как только пистолет оказался в руке лейтенанта оба немца, пригнувшись, побежали к своему велосипеду, подняли его и скорым шагом удалились от умирающего, как им показалось, русского офицера.
Лейтенант остался один. Он все чаще терял сознание, а когда приходил в себя, стрелял в воздух. У него был бельгийский браунинг на четырнадцать патронов и он пытался считать выстрелы.
Эти выстрелы услышали наши саперы. На плащпалатке они понесли лейтенанта к своим машинам, дали глотнуть спирта, уложили на носилки и повезли в тыл. Было уже совсем светло. Открывая глаза, лейтенант видел убегающую назад дорогу.
Его привезли в медсанбат, как он узнал потом, это был 268-й МСБ 5-й Орловской Стрелковой дивизии. На носилках его занесли в помещение и положили на пол в коридоре у стены. Мимо пробегали медсестры, ковыляли раненые, кого-то пронесли на носилках, раздавались стоны, крики. Врач подошел не сразу. Осмотрел и приказал:
– Несите на стол! С лейтенанта стащили сапоги и гимнастерку с бельем, разорвали брюки, положили на операционный стол.
– Маску! Наркоз! Инструменты для ампутации!
Эти команды услышал хирург, работавший у соседнего стола.
Он подошел и осмотрел раны лейтенанта.
– Займись этим, – сказал он первому хирургу и указал на операционный стол, где лежал оставленный им раненый.
Подошедший хирург по обличию то ли кавказец, то ли еврей, был крупным мужчиной с большими волосатыми руками. Лейтенанту наложили маску.
– Считай! – велел хирург.
Лейтенант досчитал до полсотни.
– Считай дальше! Вслух считай! – командовал врач.
– …Пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре… – едва шевеля губами, все больше путаясь, бормотал лейтенант.
– Ты слышишь меня? – донесся до него громкий голос хирурга.
Лейтенант слышал, но ответить не мог. Он видел себя на мотоцикле, кто-то кричал ему, чтобы он считал. На другом мотоцикле голубого цвета появился кто-то похожий на командира его полка, за ним ехали еще какие-то мотоциклисты, мелькнул номер 62… Потом все пропало.
Очнулся лейтенант в пустой комнате на носилках. Рядом на ящике сидел старший сержант и читал газету. Лейтенант попросил пить. Сержант сунул ему ко рту какое-то питье.
– Дай воды, – попросил лейтенант.
– Сначала выпей это, – настойчиво предложил старший сержант.
Лейтенант весь был в бинтах. Забинтованная средина туловища лишила его подвижности. Он приподнял насколько мог голову и посмотрел на одеяло, страшась того, что нет ноги. Оказалось – цела!
– Этот не отрезает, – сказал старший сержант, имея в виду волосатого хирурга. – Он бережет.
Это произошло 30 апреля 1945 года. Через два дня пал Берлин, а через девять дней была объявлена Победа в Великой Отечественной войне. В это время лейтенанту Мосягину было от роду 21 год. Ему не довелось встретить великий день Победы вместе со своими однополчанами. После четырехлетней войны вместо чувства ликования и свободы ему была предназначена долгая, длиною в полтора года, исполненная страданий и преодоления тяжелых недугов борьба за жизнь и здоровье. Стараниями и искусством врачей жизнь и силы постепенно возвращались в израненное тело молодого человека.
После 268-го медсанбата брату предстояли скитания по полевым госпиталям и санитарным летучкам, после чего он лечился в эвакогоспиталях в польских и немецких городах: Лодзь, Згеж, Бад-Ландек. Зимой 1946-го года в теплушке санитарного поезда его вместе с другими ранеными перевезли в Глейвитц. От этого немецкого города шла железнодорожная колея российской ширины и 16 февраля санитарным поездом лейтенант Мосягин был отправлен в Россию, в город Уфу. Здесь в стационарном госпитале брат лечился долгих семь месяцев, отсюда 19 сентября 1946 года лейтенант Мосягин был выписан инвалидом Отечественной войны второй группы и направлен по месту жительства в город Новозыбков.
Больше, чем на год после Победы, продлилась для брата его война. Более пяти лет продолжалась его дорога от Новозыбкова до Москвы, от Москвы до Берлина и от Берлина до Новозыбкова. Из дома на войну он ушел семнадцатилетним, здоровым начинающим жить человеком, а вернулся с войны домой двадцатидвухлетним инвалидом. Он хромал на обе ноги, его донимали головные боли, здоровье было слабым, и его еще несколько раз долечивали в госпиталях.
Но надо было жить!
В материальных недостатках и голоде послевоенных лет он закончил вечернюю среднюю школу, а потом политехнический институт, где получил профессию горного инженера. Офицер армии-победительницы, инвалид Великой Отечественной войны, будучи студентом, на хромых ногах он ходил по ночам на железнодорожную станцию разгружать вагоны, чтобы помочь прокормиться жене и маленькому ребенку. Ни на войне, ни в трудовой жизни он никогда не прятался за чужие спины. Рядом с боевыми наградами у него – три степени знака «Шахтерская слава».
Декабрь 2007 года
1
Имеется в виду правившая в стране в ту пору Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) – ВКП(б), с 1952 до 1991 года – Коммунистическая партия Советского Союза. – Прим. ред.