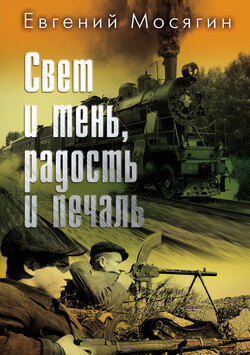Читать книгу Свет и тень, радость и печаль - Евгений Мосягин - Страница 6
Великая Отечественная война
Фронтовики
ОглавлениеЛаврук
Ко времени моего знакомства с этим человеком контора «Аэропроект» стала проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом «Аэропроект». Я часто слышал, что в институте в одном из технических отделов работает инженер-проектировщик без рук. Это было совершенно невероятно, как это можно работать проектировщиком без рук? Чертить-то надо.
– А он чертит, – сказал мне мой хороший приятель Сергей Валентинов, ветеран «Аэропроекта». – Чертит. У него оторваны кисти рук, а культи расщеплены, и он приспособился.
Мне очень хотелось повидать этого человека, но работали мы в разных отделах и по производственным вопросам не пересекались. Нельзя же, в самом деле, заявиться в помещение, где он работал, и заявить ему: «Здрасьте, я хочу посмотреть, как вы работаете». Однажды в коридоре мне показали на прошедшего мимо мужчину. «Вот он – Лаврук», – сказали мне. Крупный, плотного сложения мужчина в накинутом на плечи пиджаке, не спеша, удалялся по коридору. Держался он прямо, и походка была у него несуетливой, как у человека вполне уверенного себе.
Следующая встреча с Лавруком оказалась для меня более содержательной. В «Аропроекте» был организован шахматный турнир, в котором я принимал участие. Так вышло, что Лаврук сидел за соседним столом. Против него играл неприветливый сметчик, который то и дело забывал нажимать на кнопку часов, и Лаврук ему напоминал об этом:
– Я мог бы за тебя нажимать твою кнопку, так у меня рук нет. Я посматривал на него. Противник мне достался не очень опасный, и у меня была возможность несколько отвлекаться от своей игры. Лаврук в накинутом на плечи пиджаке, под которым были укрыты его «руки», не меняя позы и не вставая с места, играл спокойно и уверенно. Удивительно было, как он брал шахматные фигуры. Я хорошо рассмотрел его «руки», вернее то, что осталось у него от нормальных человеческих рук. У него не было обеих кистей, оторванных или ампутированных, сантиметров на шесть-семь выше запястья. На оставшихся обрубках хирург разделил лучевую и локтевую кости так, что вместо гениального творения Бога или природы, вместо прекрасных человеческих ладоней с пятью пальцами Лаврук получил две крупных клешни. Они-то и стали для Лаврука способом продолжения своей жизни. Но мало того, что Лаврук приспособился просто жить, он сумел сохранить за собой право на инженерную должность и исполнял ее так, что ни нареканий по своему адресу, ни снисходительного отношения к себе не допускал.
Мне очень интересно было смотреть, как он играет в шахматы. Когда наступала очередь его хода, он, оценивая шахматную ситуацию, некоторое время смотрел на доску, затем из-под пиджака появлялась его «рука» с завернутым по локоть рукавом рубашки, и он своей клешней точным движением брал необходимую фигуру и аккуратно перемещал ее в намеченное место. При этом он никогда не касался других фигур своей ужасной клешнеобразной вилкой. Он нажимал на кнопку часов, и рука его пряталась под пиджак.
Лаврук был крупным, несколько грузным, мужчиной. Его большая голова со светлыми волосами и короткой шеей плотно размещалась на широких плечах. Лицо его, несколько поврежденное мелкими осколками, было безбровым и просторным, с немного пухлыми щеками, что придавало ему несколько бабье выражение.
Он выиграл свою партию и постоял около моего стола, наблюдая окончание моей партии.
– В конце ты хорошо играл, – сказал он мне. – А вот вначале суетился. Вот зачем ты делаешь ход пешкой h2 – h3? Что это дает? Защищаешь клетку g4, а зачем? Не хочешь, чтобы противник сюда слоном пошел? Пусть идет. Это пустой ход.
Мы поговорили о шахматах, а потом были у нас случаи, когда мы с ним сыграли несколько партий. Я привык к его ужасной клешне, а сначала мне было не по себе, когда она появлялась из-под пиджака над шахматной доской. Сам он к своему увечью относился спокойно и даже безразлично. Он умел быть независимым человеком при своих ограниченных возможностях. На работе он сам расстегивал и сдавал в гардероб пальто, сам ходил в архив отбирать необходимые для работы материалы, сам точил карандаши и даже что-то чертил. Вероятно, эскизы. Он работал в группе, разрабатывающей проект централизованного обеспечения самолетов горюче-смазочными материалами в аэропортах гражданской авиации. Начальником у него был интеллигентный и добрейший человек по фамилии Чернов-Пигарев. Они очень хорошо ладили друг с другом.
Лаврук никому не был в тягость. Его доброжелательность, спокойствие, естественность поведения привели к тому, что сотрудники как-то перестали учитывать его физическую неполноценность и обращались с ним, как с таким же, как и они, обычным человеком. А ведь это было далеко не так. Всё, что нормальным человеком проделывается просто механически, для Лаврука представляло в иных случаях непреодолимые трудности. Какое же множество всяческих бытовых и иного рода условий необходимых для жизнеобеспечения следовало приспособить для увечного человека. Брюки у Лаврука были на подтяжках и на молнии, обувь тоже застегивалась на молнии. По институту он всегда ходил в накинутом на плечи пиджаке, чтобы не демонстрировать свои обрубленные руки. Пальто он надевал, как и полагается, в рукава, и они как-то безвольно болтались пустые снизу около карманов. Достать что-нибудь из кармана Лаврук не мог. Простая вещь – носовой платок, а как Лаврук пользовался им, я ни разу не видел. Что говорить, сложностей и больших и малых в бытовой жизни безрукого человека было множество. Но Лаврук был спокоен и жил в диапазоне, отпущенных ему возможностей достойно и без жалоб. Однажды он мне рассказал:
– На вечере в день Советской Армии в институте немного выпил. А выпиваю я совсем редко и только дома. В метро, чувствую, развезло меня, но свою остановку я не проехал. Вышел из вагона вроде ничего, а в подземном переходе меня закачало. Там трое парней стояло. Я подошел к ним и говорю: «В кармане у меня вот здесь три рубля, возьмите их. У меня нет рук. Выпил на празднике малость. Доведите меня до подъезда дома напротив». Довели, деньги взяли.
Я ни разу не видел на пиджаке Лаврука ни наградных колодок, ни цветных нашивок, свидетельствующих о боевых ранениях. Конечно, мне очень хотелось узнать, как его покалечило, как он потерял руки, но в первое время нашего знакомства я не решался об этом заговаривать. А потом, когда наши отношения приняли характер некоей доверительности, я попросил его рассказать, если он сочтет возможным про свою неудачу на войне. Он ухмыльнулся и по-доброму сказал: «Дать тебе главу для книги?».
Он сказал «гваву», потому что картавил на букву «л». Я ответил, что не обязательно для книги, а чисто по-человечески интересно.
– Раненых и покалеченных людей после войны по домам много вернулось. А вот такого человека, как вы, я первый раз вижу.
– Видишь, какая история, – ответил мне Лаврук. – Это как посмотреть. Ты говоришь, «неудача», а я тебе скажу: мой случай – это не то что удачное разрешение сложившейся ситуации, а это просто чудо, что я жив остался. Вот так оно бывает. Как-нибудь я тебе расскажу.
Мы редко встречались. Я не приставал к нему со своей просьбой, а сам он не возвращался к нашему разговору. Мало ли, по какой причине. А потом вышел указ о разрешении инвалидам Великой Отечественной войны выходить на пенсию в 55 лет. С тех пор я потерял из виду моего доброго приятеля Лаврука, инженера-проектировщика, без обеих рук.
Витя Боркович
Когда я пришел работать в проектно-изыскательский институт, Витя Боркович к этому времени уволился из этого учреждения. Некоторое время память о нем сохранялась в институтском фольклоре и в кулуарах знавшие его сотрудники говорили о нем, кто с осуждением, кто с порицанием, но во всех случаях с сочувствием.
Виктора демобилизовали из армии, а точнее сказать, списали «по чистой», как говорили в то время, поздней осенью 1945-го года. Двадцати трех лет от роду он стал инвалидом Великой Отечественной войны. Домой он пришел на двух костылях и с одной ногой. Другую ногу выше колена он оставил в бою за нерусский город Данциг.
Весной 1945-го года Второй Белорусский фронт под командованием маршала Рокоссовского в тяжелых боях сокрушал Восточно-Померанцевскую группировку фашистов. Разгром немецкого сопротивления завершился победоносным штурмом Данцига. Маршал Рокоссовский 31 марта 1945 года был награжден орденом «Победа» «за искусное руководство крупными боевыми операциями».
А сержант Виктор Боркович почти в то же время подорвался на немецкой противопехотной мине.
Праздник Победы Витя отметил на госпитальной койке. Сколько бессонных ночей одолевали его горькие размышления о своем увечье, о своей неполноценности. Хирург утешал его:
– Привыкнешь. Получишь протез, у тебя хорошая культя.
– Я бы эту хорошую культю, не глядя, сменял бы на какую-нибудь самую плохую ногу, – горько шутил Витя.
– Жив остался, благодари Бога, – строго урезонивал Витю хирург. – Бывает куда, как хуже.
То, что бывает хуже, Витя хорошо знал. И в санитарных поездах, и в госпиталях он видел множество покалеченных войной людей, покорно и терпеливо переносивших свои несчастья. Это в какой-то степени примиряло Виктора с его положением, и он с горечью осознавал, что ему придется теперь учиться жить одноногим человеком.
После госпиталя он вернулся к матери в маленькую комнату коммунальной квартиры. Мать встретила возвращение покалеченного сына так, словно только таким он и должен был вернуться с войны. Радость ее была без малейшего оттенка горечи. Она была счастлива – сын вернулся с войны. Это главное. А то, что он калека, это она наедине с собой, ночами переплакала, в одиночестве, в котором она давно уже научилась жить.
До войны Виктор начал учиться в топографическом техникуме. Но поскольку в 1939-м году арестовали его отца, техникум со второго курса пришлось оставить. Мать как жену врага народа уволили из школы, где она работала преподавателем истории. Витя начал искать работу. Один дальний родственник матери помог ему устроиться в один из проектных московских институтов. Его взяли на должность десятника в отдел геодезических изысканий. Осенью, за год до войны, его призвали в армию. А потом началась война.
После госпиталя Виктор больше года стучал костылями по московскому асфальту. Ему пришлось недолгое время полежать на госпитальной койке, после чего он вместо костылей начал осваивать протез. В проектный институт, где он работал до войны, Виктор пришел с одной палкой. Больше ему некуда было идти. Его приняли на работу, но не в отдел изысканий, а в архитектурно-строительный отдел на должность чертежника. Какой же геодезист из одноногого человека? Пусть, решили в отделе кадров, привыкает к настоящей работе, если будет стараться, может и получится из него нормальный проектировщик. В крайнем случае, можно будет перевести его в копировальное бюро.
Первое время Витя с охотой принялся за новую работу. Но его ненадолго хватило. Что-то чертил по заданным эскизам, старался понять, пытался понять, что к чему в строительных чертежах. Но его усердия ненадолго хватило.
Послевоенные годы были очень тяжелыми для жизни народа. Вождь не пожалел людей, не дал передохнуть после великой Победы. Начались «великие стройки коммунизма». Правительство призывало изнуренный народ после ратных подвигов к подвигам трудового энтузиазма при карточной системе снабжения и общей жизненной скудости. Буханка черного хлеба на рынке стоила сто рублей. Зарплаты матери и Виктора с его инвалидной пенсией катастрофически не хватало даже на питание.
У Виктора не хватило оптимизма и комсомольской резвости для активного участия в борьбе за переходящее Красное знамя или за победу в соцсоревновании. По-видимому, ему следовало бы поступить в какое-то заочное обучение и получать нормальную специальность, но он был не готов к этому. Его сверстники были уже дипломированными специалистами и занимали приличествующие возрасту должности, а он считал свое время упущенным.
Неподалеку от барака, в котором размещалась проектная контора, в большом кирпичном здании на первом этаже располагалось то самое заведение, что имело в послевоенное время множество названий: пивная, чайная, закусочная, пивнушка, забегаловка. Витя стал частым ее посетителем. В ней можно было принять «сто грамм с прицепом» и поговорить «за жизнь» с такими же, как и он, бывшими защитниками Отечества с поломанными судьбами и неприкаянными душами. Завелись друзья и соучастники. Витя никогда не приходил домой пьяным, но и совершенно трезвым он уже почти не бывал. Вероятно, понять это как-то еще можно было, но простить было нельзя.
Я знал в то время одного молодого человека, такого же, как и Витя, одноногого инвалида войны. После войны на костылях он пришел в Строгановский институт, где до войны закончил два курса, и продолжил образование. Через год он ходил на протезе с одной палочкой. Он получил диплом, начал работать, женился на хорошей девушке. Его звали Валерий. Наши жены работали в одном учреждении, и у нас сложилась та ситуация, которая называется «дружбой домами». Может быть, Валерий и имел какие-то комплексы, связанные с его увечьем, но внешне он был постоянно выдержан и спокоен. Помню, как они с женой были озадачены и очень переживали то, как воспримет их маленькая и пока еще несмышленая дочь увечье папы. Чтобы до времени не травмировать ребенка, они прятали от нее отстегиваемый на ночь протез. Как, в самом деле, объяснить маленькой девочке, почему папа свою ногу укладывает спать отдельно от себя под кроватью? Неудобств в этом было немало, жили-то в одной комнате.
Валерий, сколько я знал его, всегда был доброжелательным и корректным человеком. Виктор тоже был не обозленным, никого не винил в своем увечье, но ни к учебе, ни к работе у него не было ни пристрастия, ни интереса. Ему сочувствовали, его укоряли, донимали советами, он никому не возражал, но поступал по-своему.
Бедная мать Виктора жалела сына, уговаривала его, просила не пить. Она очень боялась за него. Невозможно себе представить, как она сводила концы с концами при таком поведении сына! Была она еще не старой женщиной и довольно привлекательной. Когда забрали ее мужа и уволили ее с работы, она устроилась посудомойкой в рабочую столовую. От мужа пришло всего два письма из какого-то Воркутинского лагеря. Потом письма перестали приходить, и на ее запрос ответили, что ее муж скончался от воспаления легких. В сорок третьем году ее взяли на прежнюю работу в школу, так как не хватало учителей. Время от времени со своими учениками она организовывала выступление художественной самодеятельности в военном госпитале. Там она познакомилась с выздоравливающим офицером Николаем Семеновичем. Сам он был из подмосковного города Рогачева. У них сложились хорошие доверительные отношения. После госпиталя Николай Семенович попал в свою часть. Переписка между ними оборвалась перед самой Победой. «Не судьба», – решила мать Вити. Но через два месяца после возвращения домой ее покалеченного сына, перед самым Новым годом Николай Семенович заявился к ней. Когда она открыла дверь и увидела его, она едва не лишилась чувств. В офицерской шинели без погон, как прежде прямой и сдержанный, он стоял перед ней на одной ноге и с двумя костылями…
Она провела его в свою комнату, и он, не снимая шинели, сел у стола. Костыли положил на пол у стула. Мать Виктора опустилась на колени перед его единственной ногой, прижалась лицом к шинели и горько заплакала.
– Ну что ты испугалась? – спросил Николай Семенович. – Ничего страшного, ноги нет ниже колена. Буду ходить на протезе…
Женщина поднялась с колен, села к столу и закрыла лицо руками. Николай Семенович снова принялся ее утешать, но она протянула к нему руку и тихо сказала:
– Два месяца назад из госпиталя вернулся мой сын. Тоже на двух костылях и с одной ногой.
Николай Семенович ничего не сказал. Он подумал, что четыре костыля для одной женщины и для такой маленькой комнаты, пожалуй, будет многовато. Он поднял с пола свои костыли, надел шапку и встал со стула.
– Не плачь, – проговорил он. – Не надо. Сейчас я уеду к родителям. Потом напишу тебе, и мы обо всем договоримся. А если я приеду, то уже без костылей.
Он шагнул к двери, она подошла к нему, обняла за плечи и снова заплакала. Сколько раз она жалела потом, что не остановила его, когда он уходил из квартиры. Сколько она ругала себя за это. Но это было потом, а в то время она не могла его принять. Четыре костыля в одной тесной комнате коммунальной квартиры! Как можно с этим жить! Ее души не хватило на это. Она каялась и казнила себя.
От него не пришло ни одного письма.
Со временем она успокоилась. Когда Виктор освоил протез и поступил на работу, она подумала, что не так уж все плохо в ее жизни. Она надеялась, что сын послушается ее советов, поступит учиться, получит профессию, женится… Ничего этого не произошло. Виктор все чаще и чаще приходил домой нетрезвый. К работе он совершенно утратил интерес, выполнял то, что поручали, и только.
В это время в отделе намечалась командировка в один из сибирских аэропортов, для обследования и обмеров подлежащих ремонту некоторых технических объектов. Поехали опытный пожилой архитектор по прозванию Ник-Ник, хотя он был просто Николай Николаевич, и молодая женщина инженер-конструктор Зинаида Самсоновна. Третьим взяли с собой Виктора, поскольку он очень просился в эту поездку. Думали, может, это пойдет ему на пользу.
– Первое время Виктор был для нас замечательным помощником, – рассказывала Зинаида Самсоновна. – Представьте, надо лезть на крышу двухэтажного дома. Кому? Ник-Ник грузный, тяжелый, да и возраст у него солидный. А я – женщина, мне по крышам лазать вроде бы и не пристало. Без Виктора было бы трудно. Я ему говорю, что через слуховое окно надо выбираться на кровлю. А он по пожарной лестнице на любую кровлю забирался. Отстегнет протез и – вверх. По кровле перемещался на коленках, уклон хоть и небольшой, но надо же было там зарисовать детали кровли, водоотводы, разбивку уклонов, обмерить все это и нанести на схему. Витька молодец, он быстрый и все хорошо делал.
Когда с обмерами и обследованиями закончили, нам с Ник-Ником предстояло заниматься множеством согласований в городских учреждениях. Мы уезжали в город, а Виктора оставляли в гостинице, чтобы он занимался вычерчиванием обмерных работ.
Зинаида Самсоновна рассказывала, что несколько дней Виктор исправно трудился, а потом сошелся с местными забулдыгами, и ко времени возвращения из города ее с Николаем Николаевичем он пребывал в невменяемом состоянии. Тогда Николай Николаевич, мужчина серьезный и решительный, по утрам отбирал у Виктора ногу и относил её к хозяйственникам гостиницы в подсобное помещение. Сердобольные гостиничные женщины с пониманием относились к такому обороту дела. Виктор не обижался, чувствуя себя виноватым. Но целый день в номере он не сидел. При помощи табуретки прыгал по гостиничным коридорам и, как там у него получалось, но традиционных «сто пятьдесят с прицепом» он себе добывал.
Через недолгое время после командировки Виктор уволился из института.
– Куда пойдешь? – спросил у него начальник отдела.
– Кореш один обещал на рынке устроить вроде бы экспедитором, – неуверенно ответил Виктор.
Мать выхлопотала ему инвалидную коляску – самое скверное приспособление изо всех мыслимых технических средств передвижения человека по земле. Виктора часто видели на Тишинском рынке, говорили, что он общается с какими-то подозрительными гражданами. Сошелся с какой-то женщиной, рыночной торговкой.
Женщина была старше его и такая же, как и он, выпивоха. Летом его видели на пляже в Серебряном бору.
А потом прошел слух, что он утонул, купаясь нетрезвым в Москве-реке. После Победы он прожил всего только восемь лет.
Письма из 1944 года
(с комментариями)
28 октября 1944 года
«Вчера получил от родных письмо. И как я был изумлен, когда в конце письма прочитал адрес. И кого же?!! Нет… Я вот сейчас пишу письмо на имя Мосягина Евгения. Не может быть!.. Как?!! А вчера… Полчаса смотрел на адрес в конце письма и не верил глазам своим: Германия и Мичуринск. Эти два названия у меня в мозгу устроили пляску Святого Витта. Может быть, родители ошиблись? Да нет же. Все по правде.
Здравствуй, Женя! Привет тебе из Казани от Торбина Михаила. Все-таки не понимаю, как ты вместо Германии оказался в Мичуринске?
О себе: сейчас лежу на койке в госпитале и пишу это письмо. Жив, хотя и не очень здоров. Лечение кончается. На днях могут выписать. На этот мой адрес ты пока не пиши. Как буду иметь другой адрес, напишу тебе, и ты мне ответишь.
Не могу писать, кружится голова, черт знает что – не разберу… почему ты в Мичуринске?
Твой друг Михаил Т.»
[Просмотрено Военной цензурой 13840]
Я мог бы выразить свое удивление по поводу получения этого письма с не меньшим эмоциональным напряжением и с таким же количеством восклицательных знаков, сколько имеется их в письме моего друга Михаила Торбина. Чего-чего, а уж этого письма я ожидать никак не мог. Последний раз мы виделись с Михаилом в августе 1943-го года в оккупированном немецко-фашистскими захватчиками Новозыбкове. Это был скорбный день, вместе с группой молодежи нашего города меня угоняли в Германию. Два товарных вагона в средине воинского немецкого эшелона заполнили молодым новозыбковским народом и повезли на запад. С того дня прошло не так уж много времени, но сколько перемен в наших судьбах сотворила для нас война!
Конечно, Германия и Мичуринск в условиях войны понятия несовместимые, но такого бурного эмоционального всплеска, который Миша выразил в своем письме, я не мог ожидать. Человек он скромного поведения, очень сдержанный и закрытый. Но дело, пожалуй, здесь вот в чем: у меня, кроме Миши, было еще два хороших друга, а Миша дружил только со мной. Так уж сложилась у него жизнь.
Германия и Мичуринск?.. Да все очень просто. За Днепром, в Белоруссии, я бежал из немецкого эшелона. Попал к партизанам. Воевал. Когда партизанский отряд соединился с действующей Красной Армией, меня, как не достигшего призывного возраста, отправили в распоряжение райвоенкомата по месту жительства. Два месяца я прожил дома, а в начале марта 1944-го года меня призвали в армию и направили на учебу в Отдельный полк, который стоял под Мичуринском.
Письмо от Михаила было для меня очень дорогой неожиданностью. Крошечный листик бумаги, исписанный карандашом и сохранивший линии изломов, по которым он складывался в треугольник, превращаясь в почтовое отправление, имевшее в годы войны хождение по всей России и по всем фронтам. Для меня же этот треугольник был письмом из военного госпиталя от моего друга, раненого солдата.
20 ноября 1944 года
«Здравствуй, дорогой друг Женя!
Я все еще в Казанском госпитале, и твое первое письмо попало ко мне в руки. Я ему был бесконечно рад. Я лежал на кровати, когда его ко мне принесли. Прочел две-три строчки и дальше читать не мог. Я смеялся и подпрыгивал на кровати от радости и от волнения. Теперь мне все о тебе известно. А как твой брат Федя? Где он? Наверно нет никаких известий.
Теперь немного о себе:
25 сентября 1943 года в Новозыбков вошла Красная Армия.
28 сентября меня мобилизовали.
1 октября зачислили в роту ПТР одного из противотанковых дивизионов в качестве бронебойщика.
1 – 22 октября меня обучали на курсах бронебойщиков в одной из деревень в 60 километрах от Новозыбкова и в 20 километрах, не доезжая Ветки на реке Сож.
22 октября – на фронт. Ветка.
28 октября переходим Сож у Ветки и на другом берегу занимаем позиции. Ну а дальше пошли бои и переходы.
18 ноября ранен где-то между Гомелем и Речицей.
30 ноября снова фронт в своей части.
13 января 1944 года меня перевели в пехотный полк. Я – ручной пулеметчик.
18 января 1944 года ранен осколками мины в обе ягодицы. Госпиталь в Буде-Кошелевой, потом в Новозыбкове, где пролежал один день. Приходили родные.
31 января – 6 февраля санитарный поезд.
6 февраля – 23 марта лечился в госпитале в городе Егорьевске Московской области.
1 апреля прибыл в новую часть под Витебск в дивизион бронебойщиков. Через два дня перевели в Смоленск, где несколько дней был курсантом-артиллеристом. И – на фронт.
6 апреля снова был ранен пулей в скулу. Попал в санбат.
16–27 апреля госпиталь в Смоленске.
27 апреля – 4 мая санитарный поезд.
4 мая – 2 ноября лечился в госпитале в Казани.
2 ноября 1944 года выписан из госпиталя и нахожусь в хозяйственной команде. Жду комиссии. Пока числюсь нестроевиком по ранению.
Крепко жму руку. Твой друг Михаил»
[Просмотрено Военной цензурой 12461]
Хронология фронтовой жизни моего друга не требует никаких комментариев кроме двух первых пунктов.
Действительно, город наш был освобожден от немецко-фашистской оккупации 25 сентября 1943 года. Накануне советская авиация жестоко бомбила город, немцы сопротивления не оказывали, к тому же в основном их в городе уже не было. В результате бомбежки было уничтожено некое количество частных домов, что позже было списано на счет немецких оккупантов. О боевых действиях при вступлении нашей армии в город мне ничего не известно, и никаких документальных сведений об этом я не встречал. Имелось в городе одно единственное, но весьма убедительное свидетельство огневого контакта с врагом: в начале Замишевской улицы, около озера стоял разбитый танк Т-34. Его башня, сорванная взрывом, лежала на берегу озера у самой воды. О том, как это произошло, сколько и кого только я ни расспрашивал, никто ничего вразумительного не мог мне ответить.
Михаил живой свидетель того, как немцы ушли из нашего города и как в город вошла наша армия, тоже ничего не знал о происшествии с танком.
Второй пункт фронтовой хронологии Михаила требует кое-каких дополнений.
«26 сентября 1943 года меня мобилизовали».
В этот день одновременно с Михаилом в Новозыбкове мобилизовали всех мужчин до 1925-го года рождения включительно. Я мало что знаю о многих призванных тогда в армию моих земляках, но с не уходящей из души печалью могу сказать, что в этот день призвали в армию всех моих товарищей и друзей: Алексея Копылова, Николая Малеева, Митю Гержедовича, Ваню Масарова, Никиту Соколова, Павла и Кузьму Дороховых. Все они были убиты в первые два-три месяца после призыва. У матерей их не просохли слезы проводов своих сыновней на войну, как они начали получать на них «похоронки». Никто из них не дожил до двадцати лет. Их пощадила немецкая оккупация, но не пощадила война. Их фамилии не значатся на мемориальных плитах, посвященных памяти павших за Родину солдат. Неизвестны могилы, где они похоронены, да и есть ли вообще где-нибудь эти могилы. А теперь, даже никого и не осталось на свете, чтобы их поминать.
Так вот и получилось, что изо всех моих друзей и товарищей, призванных в Красную Армию 25 сентября 1943 года, живым остался единственно один Михаил. О двух погибших моих друзьях я не могу не упомянуть в этом рассказе.
С Алексеем Копыловым мы вместе учились в школе. Познакомились мы во втором классе и до восьмого класса ни разу не поссорились. Когда в нашей стране школьное обучение стало платным, Алексей бросил школу и пошел работать. Он был на два года старше меня. Когда после партизанского отряда я жил дома в ожидании призыва в армию, зимой 1944-го года я навестил родителей Алексея. Его мать дала мне прочитать письмо сына. Обычное солдатское письмо, в котором Алексей сообщал, что прошел обучение на артиллериста, что он здоров и служба его началась нормально, дальше шли пожелания, приветы и прочее. Главное, что я запомнил на всю жизнь были последние слова из письма Алексея: «Недавно был бой и мы много стреляли из пушки. Потом весь расчет наградили. Не получил награду только я один. Сказали, что из-за оккупации. Но ничего, война не скоро кончится и я еще заработаю себе ордена». Когда я читал это письмо, Алексея уже не было в живых. Он был убит в декабре 1943 года. Мы с его матерью об этом еще не знали.
Коля Малеев был убит еще раньше – 12 ноября 1943 года, через полтора месяца после его призыва в армию. Мы подружились с ним во время оккупации. Он был спокойным, молчаливым, как будто постоянно что-то обдумывающим, не курил, не матерился, любил литературу, читал книги. Он, как и Алексей, был старше меня на два года. При получении письма от Михаила я уж знал о гибели Алексея и Николая.
22 ноября 1944 года
«Здравствуй, друг Женя!
Это письмо будет продолжением предыдущего. Сейчас вечер, пятый час, я сижу в подвале у кочегарки (водяное отопление госпиталя) и пишу это письмо. Сейчас работаю так: ночью смотрю за топкой и качаю воду электронасосом на чердак, поскольку городское водоснабжение не подает воду на верхние этажи. Утром убираю улицу перед госпиталем. Работа не тяжелая, снегопад пока небольшой. Ночью через каждые три часа заправляю топку и подкачиваю воду. Днем можно поспать.
В предыдущем письме я остановился на том, что 4 мая прибыл в Казань. До 2 июня лежал, лечили.
2 июня 1944 года с группой ранбольных направили в Марийскую АССР, на Волгу. Сначала работали в лесу, потом сбрасывали дрова в Волгу немного ниже плотины. Погода была жаркая, купался. Работали по возможности (мы еще ранбольные, не выписанные из госпиталя, поэтому требования к нам были заниженные), а кушали хорошо, госпитального пайка вполне хватало.
2 июля ездил в госпиталь на проверку.
14 июля командировка на Каму, на сенокос (50 километров от Казани). Косили сено, убирали в стога. Тоже было хорошо.
29 августа вернули в госпиталь на осмотр.
2 сентября направили туда же на сенопрессовку.
23 сентября – в госпиталь. Лечили.
6 октября послали грузить картофель на станцию Каратун (100 километров от Казани). Местный РВК[13] самовольно устраивает нашей группе медкомиссию. Восемь человек и меня в том числе – в строй.
17 октября сажают в поезд и везут в Казань на формирование. Со станции я пошел в госпиталь, поскольку я еще не выписан из него. Сказали, правильно сделал. (Каратунский РВК просто выполнял план поставок.) И вот, как я сообщал в предыдущем письме, 2 ноября меня комиссовали. Годен к нестроевой службе. По требованию госпиталя РВК направил меня на работу сюда. Паек уже меньше и хуже. Ничего! Переживем. В клубе госпиталя через день бывает кино. На днях купил русско-немецкий словарь. Твой словарь прошел вместе со мной фронт и сейчас у меня. В него даже попал осколок. Захолодало, мороз, снег. Через месяц будет медкомиссия, возможно – в строй. И я буду в Германии – моя мечта!
Пока до свидания. Крепко жму руку. С дружеским приветом, Михаил Торбин»
[Просмотрено Военной цензурой 13910]
Аккуратность и пунктуальность постоянно были отличительными чертами характера Михаила. Его казанская жизнь пред ставлена им достаточно убедительно и подробно. Чего не скажешь о его фронтовой жизни: никаких подробностей, ни слова о его переживаниях и впечатлениях от фронтовой действительности, не говоря уже о мало-мальских сообщениях о каких-нибудь боевых эпизодах. Таков Миша. Хотя нет, позже был случай в нашем разговоре при встрече, когда Михаил сказал мне о том, как его ранило: «Я бежал вперед и вдруг меня как будто бревном по голове ударило. Это пуля попала мне в левую скулу».
В конце письма он упоминает о немецком словаре. Михаил года за два до войны начал серьезно заниматься немецким языком. Успехи у него были значительные. Кстати, между вторым и третьим письмами Миша прислал мне открытку, написанную на немецком языке. Военная цензура пропустила ее, а я, конечно, прочитать ее не смог. Так она до сего времени и лежит у меня не прочитанная.
14 декабря 1944 года
«Здравствуй, Женя! Письмо твое получил сегодня. Главное, что меня в нем удивило, это сообщение о том, что Федя (Мой старший брат. – Е.М.) жив!!! Что он даже был дома. Это знаешь, просто, как в сказке.
На самом деле: тебя увозят в Германию, ты бежишь к партизанам (!) потом попадаешь домой(!!), приезжает отец, и вот в час ночи стук в дверь, и появляется Федя (!!!). Я просто и не думал, что Федя жив. Ведь мы не имели от него вестей более двух лет. Это меня радует……………… На почве, удобренной костями Алексея Копылова, Вани Масарова, Никиты Соколова и других наших знакомых, все-таки продолжается жизнь…
Вчера была комиссия в РВК. Опять – нестроевая. По-прежнему сижу в госпитальной кочегарке, и мне начинает казаться, что все это будет вечно, что этой проклятой войне не будет конца и что Гитлер, проклятый Гитлер, никогда не сдохнет.
Я потерял четыре года. И вместе с ними свою специальность, к которой себя готовил. Я бы уже работал педагогом, жил бы по-человечески. А теперь? Часто спрашивают то ли в штабе на фронте, то ли в тылу в военкомате: «Ваша специальность?».
И в анкете ставят: не имеет. А между тем другие люди отвечают: я тракторист, я бухгалтер, я токарь, я монтер. Всего этого я мог бы легко достигнуть. Хотя бы стать бухгалтером. А я решил получать высшее образование. Кто же знал, что начнется война!.. Мне уже 23 года, а я еще не жил я все еще сидел в монахах…
Видимо, у меня не все в порядке со здоровьем: левое ухо совсем не слышит, левая щека и левая половина рта утратили подвижность. Глаз левый в порядке, и веко моргает, но вот лицо наполовину окаменело. Однако, жить-то можно. Говорят, сиди пока в госпитале. Вот я и сижу в кочегарке. В столовой кормят очень плохо. Если бы не доставал на стороне картошки, пришлось бы туго. Стоят морозы до минус 30 градусов… Думаю – после войны закончу несколько месячные курсы на что-либо, начну работать и поступлю на заочное отделение института иностранных языков в Москве. Продолжаю заниматься английским языком.
Пока до свидания.
С дружеским приветом, не забывающий тебя,
твой друг Михаил»
[Просмотрено Военной цензурой 13896]
Четыре строки в этом письме наглухо зачеркнуты цензурой. Многоточия означают купюры, сделанные мной при переписке письма.
24 декабря 1944 года
«Дорогой Женя!
Я по-прежнему в казанском госпитале, кочегарю и временами несу караульную службу. Видимо, я стал закоренелым нестроевиком. В этом качестве буду встречать Новый год. Со здоровьем что-то неважно. Часто болит голова, почти каждый день. Наверно, от ранения. Вроде бы челюсть поставлена не так, была же так, да война перетáкала. Физические недуги влияют на моральное состояние.
Близится разгром Германии. На фронт я, наверно, не попаду. А жаль – надеялся увидеть Европу. Могли и убить. Так это же происходит быстро, а мертвому ничего не надо, был – не был, видел – не видел, что знал, что чувствовал, – мертвому ничего не надо… и ничего не будет. Живу теперь надеждой на окончание войны и на возможность после этого получить специальность. Что будет на гражданке?
Вспоминаю: бывало, где бы я ни был, старался быть незаметным; стеснялся своей одежды, стеснялся самого себя. А сколько было желаний, мечтаний! Как же все пойдет теперь? Я избегал общества и не потому, что я не любил быть в компании, не любил веселиться, а потому, что положение мое угнетало меня и материальное, и физическое. Да ты и сам замечал много подобного в моем поведении.
Я вот подумал сейчас, что письма должны быть похожи на дневник или на автобиографию, чтобы письмо давало как можно больше сведений о фактической жизни и душевном состоянии того, кто пишет. Недавно я записался в центральную городскую библиотеку. Взял роман на немецком языке, перевожу и читаю в своей кочегарке. Продолжаю заниматься английским языком. Днем изучаю английский, вечером – немецкий. С немецким проблем нет, а вот по английскому хорошо бы иметь небольшую помощь.
Поздравляю тебя, Женя, с Новым годом!
С дружеским приветом, твой друг Михаил»
[Просмотрено Военной цензурой 13896]
До войны Михаил Торбин жил в ужасающей бедности. В России тогда почти весь народ жил бедно, поэтому бедность семьи Торбиных не привлекала ничьего внимания. Мы подружились, когда я учился в шестом классе и мне было 13 лет, а Мише было уже 18 и он учился в девятом классе. Два школьных года он потерял из-за голода начала тридцатых годов. До войны он поступил учиться в Московский институт железнодорожного транспорта, но вышел указ о плате за обучение в старших классах средней школы и в высших учебных заведениях. Михаил ушел из института. В армию его не взяли по здоровью и он пошел работать скотником в пригородный совхоз.
Продолжить образование Михаил смог, как и следовало ожидать, после Победы летом 1945-го года, когда его демобилизовали из казанского госпиталя. В этом же году он поступил в Новозыбковский педагогический институт. Скудость материального существования вернулась к нему из довоенной жизни. Вот что он писал мне зимой 1946-го года: «Опять разбушевалась метель. Мне чертовски трудно. Шапку пока еще не купил и хожу в кепке. Сэкономленные от нескольких стипендий деньги ушли на приобретение шинели (купил на рынке), на починку сапог и на покупку нижнего белья. По карточкам дают только хлеб. Норма маленькая…».
В 1948-м году Михаил защитил диплом и, как преподаватель физики и математики, был направлен на работу в один из отдаленных и глухих районов Брянской области. Сначала расстраивался. Потом привык. Школа его увлекла. Он стал хорошим учителем, преподавал математику, физику, астрономию, вел уроки немецкого языка и преподава л какое-то «тракторное дело». Организовал кружки по физике и астрономии. После уроков школьники задерживались на его занятиях до того, что порой родители приходили в школу за своими детьми.
Инвалид Великой Отечественной войны Михаил стал заслуженным учителем России. В школе проработал пятьдесят лет.
26 декабря 2012 года
Штрафник
Война – это очень серьезное и опасное для жизни мероприятие. Во все времена, особенно в тоталитарных государствах, жестокость войны усугублялась жестокостью правителей этих государств. Во всех случаях война – это узаконенное преступление, а армия – это инструмент войны. Человек на войне не принадлежит себе, он даже не статическая единица, он просто элемент постоянно и бессчетно расходуемого материала войны. Солдат на войне никто не жалел. За всю Великую Отечественную войну ни на одном из заседаний ГКО[14] не обсуждался вопрос перерасхода человеческих резервов. Людей в России много, зачем их экономить? В сводках Совинформбюро за всю войну ни разу не было ни одного сообщения о потерях Красной Армии. Сообщалось о количестве убитых и взятых в плен фашистов, об уничтоженной в боях и захваченной исправной военной технике противника, но никогда в сводках Совинформбюро не было сообщений о наших человеческих потерях в боевых операциях, словно их и не было.
Мой родственник и сосед по месту жительства Павел Миронович Фадеев был, как я понимал в то время, простым советским человеком. Это означало, что у него была небольшая зарплата и жил он в постоянных недостатках, его семья плохо питалась, скромно одевалась и постоянно испытывала отсутствие самых необходимых для нормальной жизни вещей. При этом Павла Мироновича безустанно убеждали, что живет он в самой лучшей в мире стране, под солнцем сталинской конституции и под властью самого справедливого и заботливого правительства. Как и все советские люди, Павел Миронович не возражал против этого. Жил себе как все живут и только. Его мирная жизнь закончилась в начале мая 1941-го года тихим теплым вечером. После ужина он взял лопату и направился в конец своего сада копать огород под картошку. Едва успел он дойти до последних яблонь, как со двора его окликнула жена:
– Паша, тебя из военкомата спрашивают!
К десяти часам следующего дня Павел Миронович пошел в военкомат. Он был лейтенантом запаса, и его мобилизовали в армию. От него до начала войны пришло всего два письма, а как только началась война писем от него больше не приходило.
Наш город был оккупирован немцами через два месяца после начала войны, а еще через два месяца, поздней осенью, Павел Миронович, изможденный и больной, заявился домой к жене. Одет он был в крестьянские отрепья. Его не было дома почти полгода. Как он воевал, что с ним случилось, как он, командир Красной Армии, оказался в глубоком немецком тылу вдали от линии фронта, я так никогда и не узнал. Война уже шла больше четырех месяцев, фронт отдалился на восток от нашего города километров на триста. Думать о том, чтобы дойти по занятой немцами территории до линии фронта было бессмысленным. Да и на что, кроме трибунала, мог рассчитывать Павел Миронович, если бы и вышел у своих. К тому же начиналась зима, злая зима сорок первого года. И лейтенант Красной Армии Павел Миронович Фадеев решил остаться дома. Но что это означало – остаться дома? Как же это было непросто. Предстояла встреча с полицией и с немецкой комендатурой города. Коммунистом Павел Миронович не был, но он был офицером Красной Армии, и к тому же он, видимо, бежал из лагеря военнопленных. Его могли расстрелять или в лучшем случае отправить в какой-нибудь концлагерь. Но как-то все обошлось. Павлу Мироновичу разрешили жить дома в семье. Он был хорошим каменщиком, печником, мог плотничать, и его направили на ремонтные строительные работы зданий, где располагалась немецкая комендатура. Так незаметно и тихо он дожил до освобождения города от немецкой оккупации. И вот тогда судьба поставила его перед необходимостью повторения «момента истины». «Странно и непостижимо играет нами судьба наша», как точно и выразительно утверждал классик. Первый раз Павел Миронович добровольно являлся к немецким военным властям за получением права на жизнь. А теперь ему предстояло также добровольно явиться к командованию Красной Армии для решения вопроса о дальнейшей своей жизни.
Что произошло с Павлом Мироновичем за четыре месяца от начала войны до его появления дома во время оккупации, я так никогда и не узнал. Но вот о том, что он был в немецком плену, мне было известно. В конце октября начинало убедительно холодать и Павел Миронович вместе с женой перебирали в сарае картошку и перетаскивали ее в подпол на кухню. Стена сарая выходила на наш двор, и я случайно подслушал их разговор.
– Ты знаешь, Таня, в первые же дни войны столько пленных было, – говорил Павел Миронович, – столько, что мне казалось, немцы просто сами не знали, куда нас девать и что с нами делать. Я ничего не понимал. Я думал, если бы каждый красноармеец, перед тем как попасть в плен, всего только по одному разу выстрелил из винтовки по немцам и бросил бы в них по одной гранате, то и плена никакого не было бы, и война была бы другая. Но никто не стрелял и никуда не бросал гранат. Что случилось с нашей армией? Я до сих пор ничего не понимаю. Армия не воевала, она сдавалась в плен или разбегалась по лесам.
Павел Миронович примолк, а потом сказал:
– Подсоби, Таня, мешок на спину поднять.
После этого он вышел из сарая с мешком картошки на спине и пошел в дом.
Я тогда подумал, что, скорее всего, Павел Миронович все время до возвращения домой промучился в немецком лагере для военнопленных.
На второй день после освобождения города от немцев Павла Мироновича под конвоем направили в военный трибунал. Все решалось быстро: бывший офицер Красной Армии попал в штрафной батальон искупать кровью вину перед Родиной. Павел Миронович смирился со своей судьбой и считал, что все в его жизни этим и закончится. Штрафбат он воспринял, как продолжение жизни в условиях отложенной казни. Но всё в этом жестоком приговоре имело некоторые варианты. Кроме смерти в экстремальных боевых контактах с фашистами, штрафники имели альтернативу – получить в бою рану и выжить. Первая пролитая кровь давала право на освобождение от наказания и восстановление во всех прежних правах. Павлу Мироновичу повезло. Немецкая пуля раздробила ему коленку правой ноги. Ногу ему сохранили. С несгибаемой ногой он вернулся к жене домой. Теперь уже законно и окончательно.
И пошла его жизнь в скудости и при ограниченных средствах существования, как это было и до войны. Работал он сначала в стройконторе, потом устроился ночным сторожем в городском парке. Очень часто он писал письма в какое-то учреждение в Москву, добиваясь восстановления своего воинского звания и перерасчета инвалидной пенсии по своей последней офицерской должности. Но Павлу Мироновичу отказывали в этом. Видимо было что-то такое в его военной биографии, что лишало его права на полную реабилитацию.
30 декабря 2012 года
13
Районный военный комиссариат (райвоенкомат). – Прим. ред.
14
Государственный комитет обороны (ГКО) – созданный на время Великой Отечественной войны чрезвычайный орган управления, обладавший всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти в СССР. Действовал с 30 июня 1941 года по 4 сентября 1945 года. – Прим. ред.