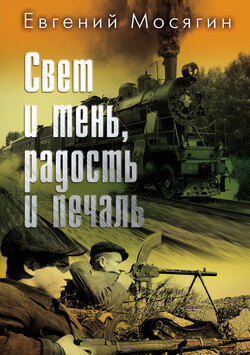Читать книгу Свет и тень, радость и печаль - Евгений Мосягин - Страница 3
Великая Отечественная война
Пьетро и Ксения Фёдоровна
ОглавлениеВ начале апреля 1943-го года в оккупированном немецко-фашистскими войсками Новозыбкове появились итальянские солдаты. Их было много и немецкая комендатура разместила их в пустовавших корпусах больницы имени 10-летия Октября. С первых же дней пребывания в городе итальянцев было заметно, что отношения между ними и немецким начальством были совсем не похожи на обычные взаимоотношения равноправных солдат одной армии, воюющей под одними знамёнами и под одним командованием.
Для местного населения, что немцы, что итальянцы были одинаково солдатами враждебной армии и воспринимались не иначе как представители чужеземной власти, преисполненной угрозы и насилия.
На самом же деле всё было не так однозначно: власть в городе принадлежала только немцам, а итальянцы находились в полном подчинении у немецкого командования, и в этом отношении итальянцы приравнивались в какой-то мере к местному населению.
Фашистская Италия в июне 1941-го года вместе с фашистской Германией вступила в войну против Советского Союза и послала на фронт 8-ю Ударную армию. Зимой 1942-го – 1943-го года эта армия была разгромлена советскими войсками на Среднем Дону. Одновременно с этим поражением в России итальянские войска были разгромлены англичанами в Африке. Эти непрерывные военные поражения, ухудшение положения в стране, рост недовольства населения и угроза антифашистского восстания заставили правительство Италии поспешить с выходом из войны.
В этих условиях немецким командованием было принято решение о снятии остатков итальянских войск с боевых позиций советского фронта и о перемещении их в тыл.
В какой тыл перемещали немцы вышедших из войны итальянских солдат – домой в Италию или в концлагеря на территории Германии, этого ни итальянцы, ни русские жители оккупированного Новозыбкова ранней весной 1943-го года, конечно, не знали. Итальянцы были уверены, что они возвращаются на свою родину.
Но у войны свои законы. Не убитый в бою солдат во время войны имеет только два варианта своего существования на земле: или быть солдатом своей армии, или стать военнопленным во вражеском государстве. Итальянцы весной 1943-го года перестали быть солдатами немецкой армии, но военнопленными в ней они пока ещё не стали.
В этом была опасная неопределённость их положения.
Размещённая на жительство в городской больнице итальянская военная часть была совершенно не похожа на нормальное воинское подразделение регулярной армии. С территории больницы ни разу не доносилось сигналов распорядка дня, в город итальянские солдаты ни разу не выходили строем, а всё больше по двое, по трое, а то и просто весёлой приятельской гурьбой. На немецких солдат они совсем не походили, это были совершенно другие люди как по внешности, так и по поведению.
Немецкие солдаты и офицеры всегда ходили по городу в строгой военной форме, затянутые в ремни и застёгнутые на все крючки и пуговицы своей амуниции.
Итальянские солдаты, похоже, совсем не были озабочены соблюдением присущего военнослужащим внешнего воинского вида. Они появлялись на улицах в расстегнутых шинелях без поясов и хлястиков, в кое-как надетых пилотках, а то и совсем без них, с расстёгнутыми воротниками кителей и всегда без оружия. Они запросто и непринуждённо держались с местным населением и никакой вражды к русским не проявляли. Они азартно разговаривали между собой и, нисколько не стесняясь незнания русского языка, то и дело вступали в беседы с местными жителями, особенно с женщинами, что-то весёлое сообщая им или что-то спрашивая у них, постоянно улыбаясь и очень располагая к себе простотой, весёлостью и доброжелательностью обхождения.
Тихими, погожими вечерами со стороны больницы часто доносились красивая музыка аккордеона или мелодичная итальянская песня.
Немецкие солдаты никогда не пели. Разве иногда можно было услышать, как развеселившийся какой-нибудь ефрейтор развлекал своих товарищей игрой на губной гармошке. Но это было ничто по сравнению с мощным гармоничным звучанием итальянского аккордеона.
Немцы пели только в строю.
Однажды со стороны Красной улицы, мимо синагоги, через мост на Базарную площадь строевым шагом двигалась колонна немецких солдат. В полном боевом снаряжении: в серых шинелях, в касках, с ранцами за спиной и автоматами поперёк груди – они шли, сохраняя строгое равнение в рядах, тяжко громыхая коваными сапогами по булыжной мостовой. При этом они пели строевую песню. Грубые мужские голоса звучали внушительно и даже грозно. Отрывистый ритм песни и чёткий тяжёлый шаг хорошо обученных пехотинцев производили впечатление несокрушимости и бездушия.
Дисциплина армейского строя всегда отделяет простого человека от того, кто стоит или марширует в строю. Немецкие солдаты в строевой колонне казались редким прохожим людьми, совершенно отстранёнными от обычной жизни, а их суровая песня только усиливала это впечатление. Немецкая колонна прошла через Базарную площадь и повернула на Коммунистическую улицу.
Итальянские солдаты подобной маршировкой никогда не занимались, у них были другие дела – поинтересней.
С приближением католической пасхи итальянцы в клубе фабрики «Волна революции» начали репетировать какое-то музыкальное представление. Сторож клуба, сохранивший свою должность с дооккупационного режима и насмотревшийся на своём веку множества всякого сценического лицедейства, был весьма удивлён необычностью «постановки», которую разыгрывали итальянцы. Сидя в тёмном зале, он с недоумением следил за репетицией итальянских артистов и никак не мог взять в толк, что же такое происходит на сцене.
А на сцене происходило действительно что-то непонятное.
За роялем сидел в накинутой на плечи шинели очень грузный и очень кудрявый итальянский солдат. Он легко и свободно играл мелодии неаполитанских песен, умело соединяя их беглыми вариациями в единую очень певучую музыкальную пьесу. Его игра производила такое впечатление, что, казалось, он может сыграть любую музыку. Но играл он странно и необычно, потому что все исполняемые им, порой очень сложные, пассажи вдруг совершенно неожиданно переходили в незамысловатый мотив советской «Катюши». Импровизируя, пианист непринужденно переходил от «Катюши» к песенке герцога из «Риголетто», потом выдавал что-то неаполитанское и снова возвращался к «Катюше».
Под эту музыку на сцене разыгрывалось некое действо, не очень понятное и непохожее ни на обычный программный концерт, ни на оперетту, ни на выступление какой-нибудь самодеятельности. Итальянские солдаты как-то перемещались по сцене, обменивались короткими репликами, пели то вместе хором, то поодиночке, и постоянно в их итальянской речи слышалось русское слово «Катюша», особенно в тех случаях, когда звучали несколько фортепианных тактов этой песни.
Руководил этим мероприятием очень подвижный солдат с высоким и красивым голосом. Он переходил от одного исполнителя к другому, что-то говорил им или пел с ними вместе, одновременно подавая знаки то аккомпаниатору, то другим участникам этой необычной репетиции.
Сторож клуба очень скоро утратил интерес ко всему, чем занимались итальянцы на сцене. Он рассказывал, что итальянские солдаты – ребята хорошие, но в артисты совсем не годятся и на рояле никто из них играть не умеет.
– Сколько ни старался их музыкант, а нашу «Катюшу» так и не сумел сыграть. Только начнёт подбирать, потом раз – и сбивается. Солдаты, случалось, уже и петь начнут «Катюшу», правда, по-своему, а этот у рояля ни с того, ни с сего вдруг – стоп – и опять играет другую музыку. Возьми нашу самодеятельность: объявят номер, выйдет участник концерта – и, пожалуйста, чин чином всё и споёт, как следует. А тут все слоняются по сцене, а толку никакого.
Сторож явно был недоволен артистическими способностями итальянских солдат. Те же, кто слушал его рассказы, не очень-то доверяли ему, но познакомиться со сценическим творчеством итальянцев, к сожалению, никому в Новозыбкове не довелось. Выступление их на сцене фабричного клуба по неизвестным причинам не состоялось.
Немцы плохо кормили итальянских солдат. Каждый день на свою кухню в больнице они возили подмороженную картошку то ли из каких-то городских хранилищ, то ли со станции.
Тощий мул, запряжённый в огромные русские сани, упорно трудился в непривычной для него упряжке. По обочинам тротуаров бежали мутные ручьи талой воды, обнажённые солнцем, темнели камни булыжной мостовой, а по ним со скрежетом ползли тяжелые розвальни с укреплённым на них коробом, наполненным картошкой. Мул плёлся впереди, солдаты дружно помогали ему, подталкивая сани, животное тяжело дышало, водя боками, а солдаты переговаривались, смеялись, и случалось, что кто-то из них начинал петь, и тогда деревянная улица русского города наполнялась очень красивыми звуками итальянской мелодии.
Неподалёку от больницы, в небольшом деревянном домике, терпеливо и скромно переживала оккупацию маленькая русская семья, состоящая из двух человек: довольно пожилой женщины и её 14-летнего внука Юры. Женщину звали Ксения Фёдоровна. На её, не таком уж долгом, веку это была вторая оккупация Новозыбкова. Первый раз Новозыбков был оккупирован немцами в Первую мировую войну в 1918-м году. Та оккупация была не такой жестокой, как эта. Армия в то время не воевала с народом, и воюющие государства не ставили перед собой задачи уничтожения населения на захваченных территориях. Прошли годы, и мир стал более жестоким, чем прежде, и человеческая жизнь в нём утратила свою ценность.
Во всем этом Ксения Фёдоровна имела возможность убедиться на собственном жизненном опыте.
Когда-то она закончила Новозыбковскую женскую гимназию, и её душой тогда владели весьма туманные и несколько романтические представления о жизни. Ранняя смерть матери, появление в доме мачехи, а затем и смерть любимого отца сделали её жизнь в родном доме невыносимой. Ей повезло – она вышла замуж. Легко расставшись с мечтаниями юности, она стала хорошей женой своему мужу и хорошей хозяйкой в его доме.
Но в середине тридцатых годов образовалось немалое число врагов народа, которые всячески вредили и мешали коммунистической партии строить коммунизм. Так писали в газетах. В то время многих хороших людей арестовывали, ссылали и расстреливали. Особенно много арестов было в 1937-м году; тогда забрали мужа сестры Ксении Фёдоровны, забрали нескольких мужчин из хороших семей на улице, где она жила. Осенью того же 1937-го года дошла очередь и до мужа Ксении Фёдоровны. Его арестовали прямо на работе, и она даже не простилась с ним. Ни сестра Ксении Фёдоровны, ни она сама никогда больше о своих мужьях ничего нигде не могли узнать. Были люди – и не стало их.
Но на этом несчастья Ксении Фёдоровны не кончились. Через год забрали её сына, отца Юры, кадрового военного, служившего в армии. Невестка привезла к Ксении Фёдоровне из Гродно своего девятилетнего сына и попросила свекровь, чтобы мальчик какое-то время пожил у неё. Она сказала, что поедет в Тамбовскую область, в Моршанск, где живут её родственники, и, как только устроится там с жильём и работой, сразу же заберёт Юру к себе. Ксения Фёдоровна за два года получила от неё всего только четыре письма и несколько почтовых переводов на небольшие денежные суммы. В последнем письме невестка просила ответа ей не писать, так как она предполагала, что место жительства её должно перемениться и что она по разрешению этого вопроса напишет сама. Это было за год до начала войны. С того времени писем от неё не было. Что с ней произошло, Ксения Фёдоровна не могла себе представить.
Оставшись одна, после того, как у неё не стало ни мужа, ни сына, Ксения Фёдоровна устроилась на работу в больницу уборщицей. Она убирала не в новом, построенном к 10-летию Октября корпусе, а в отдельных деревянных домиках, разбросанных по территории. Она не жаловалась и не роптала, только больше стала молиться Богу.
Внук, единственный сын её погибшего сына, стал для неё тем единственным существом на всём белом свете, ради которого надо было жить. Зимой 1943-го года Юра долго болел. Сначала казалось, что у него обычная простуда, но болезнь затягивалась, и Ксения Фёдоровна обратилась за помощью к знакомому санитару из больницы Карпу Ивановичу. Он сразу же определил, что у мальчика воспаление лёгких, помог с лекарствами и рассказал, как надо ухаживать за больным. Долгие ночи Ксения Фёдоровна просиживала у постели внука. Бог услышал её молитвы. Юра поправился.
А потом наступила весна.
Юра всегда был сдержанным и серьёзным мальчиком, он хорошо учился в школе и много читал. Ксении Фёдоровне казалось, что после болезни он стал ещё более сосредоточенным и как будто повзрослел. Это беспокоило Ксению Фёдоровну, но повседневные заботы о пропитании и другие дела отвлекали её от тревожных мыслей.
Ксения Фёдоровна в который раз пересматривала свои вещи, отбирая, что ещё можно обменять на продукты. Всё, что оставалось от мужа, она давно уже реализовала, и самое ценное, что теперь имелось у неё – это штатский костюм сына, который невестка привезла ей после ареста мужа вместе с кое-какими другими его вещами.
С горькой слезой вспоминала Ксения Фёдоровна, как ещё до войны находился покупатель на этот костюм, и она намеревалась его продать, но Юра, тогда ещё совсем маленький мальчик, попросил: «Бабушка, ты не продавай этот пиджак, он папой пахнет». Юра об этом, конечно, давно забыл, а у Ксении Фёдоровны не переставала болеть душа.
Когда в больнице разместили итальянцев, Ксения Фёдоровна очень обеспокоилась. Полтора года они с внуком сравнительно благополучно прожили в оккупации, и теперь ей было тревожно от любых изменений установившегося порядка их существования. Она часто видела итальянцев на улице, знала, что они заходили к соседям и ничего плохого от них никому не было, посидели, поговорили по-своему и всё. То, что они не такие, как немцы, Ксения Фёдоровна понимала, но ей не хотелось, чтобы итальянские солдаты заходили в её дом. Она просто боялась их.
Она боялась любых представителей власти, кем бы они ни были: немцами, итальянцами или русскими.
Но как бы она не хотела этого, итальянцы всё-таки зашли к ней. Она мыла крылечко, когда открылась калитка и к ней приблизились два итальянских солдата. Один был черноглазый, смуглый здоровяк с открытой улыбкой, в хорошем кителе и пилоткой в руке, а другой – маленький, с нездоровым цветом лица, в старой шинели без пояса и без хлястика, в пилотке, натянутой на уши опущенными вниз крыльями.
– Buongiorno[2], мама! – широко улыбаясь, приветствовал Ксению Фёдоровну высокий солдат.
– Здравствуйте, – проговорила Ксения Фёдоровна и, выкрутив тряпку, положила её рядом с огромными жёлтыми ботинками солдат.
– Grazie, спасибо, мама! – живо откликнулся высокий солдат, в то время как его товарищ безучастно смотрел на Ксению Фёдоровну и молчал.
Солдаты старательно вытерли ноги и прошли в дом. Низкорослый солдат остался на кухне у порога, а высокий прошёл дальше. Ксения Фёдоровна тоже осталась на кухне и слышала, как высокий солдат поздоровался с Юрой, что-то говорил ему по-итальянски, смеялся. Ксения Фёдоровна не испытывала ни чувства страха, ни беспокойства, ей было просто неловко от своей неприветливости и скованности. Но по-другому отнестись к своим незваным гостям она не могла.
– Садитесь, – указала она на табурет оставшемуся на кухне с ол дат у.
Он сел, опустив голову, молча и безучастно глядя себе под ноги. А в другой комнате высокий солдат говорил Юре:
– Io pitoro, capito! Pitoro![3] – и постукивал себя ладонью по груди.
– Не понимаю, – отвечал Юра. – Мы в школе немецкий учили, а по-итальянски я не понимаю.
Юре было не страшно, ему даже нравился этот весёлый шумный итальянец, так забавно пытавшийся что-то ему объяснить.
– Rafael – pitoro! Michelangelo – pitoro![4] – горячился солдат.
– А-а, Рафаэль! Знаю – художник. Микеланджело тоже знаю. – Юра поспешил вытащить из этажерки папку с репродукциями и показал солдату лист с изображением головы Давида.
Солдат обрадовался. Указывая пальцем на репродукцию, он блестел глазами и улыбался.
– Michelangelo – pitoro, – сказал он и, указывая пальцем себе в грудь, веско заявил. – Io pitoro. Capito?
– Вы художник, – догадался Юра.
– Si[5], худо-ж-ник. Pitoro! – возликовал итальянец, жестикулируя правой рукой, словно в ней была кисть.
Он взял из рук Юры репродукцию и поставил её на верхнюю полку этажерки, для чего ему пришлось отодвинуть в сторону собачку с задранным вверх хвостиком и маленького ослика. На собаку он сказал, что она mezzo coda[6], а на ослика – asino[7]. Он потрепал Юру по плечу и вышел на кухню. Его товарищ уже поднялся с табуретки и стоял у двери рядом с Ксенией Фёдоровной.
– Andiamo al bazar[8], – бросил ему высокий солдат.
Потом он осторожно взял Ксению Фёдоровну за руку, чуть-чуть пожал её и с белозубой улыбкой сказал:
– Arrivederci[9], мама.
Закрывая за собой дверь, он обернулся и, заметив в углу иконы, посерьёзнел и почтительно проговорил:
– Madonna[10].
Они ушли, громыхая по мостикам подкованными железом ботинками. Ксения Фёдоровна опустилась на табурет, на котором только сидел её гость. К ней подошёл Юра:
– Ну, что ты, бабушка? Чего ты испугалась? Все же говорят, что они не такие, как немцы, и против нас воевать не хотят. Ты не бойся, бабушка.
– Господи! – подняла Ксения Фёдоровна свой взгляд к иконам и перекрестилась. – Они ведь католики и больше поклоняются Деве Марии. Хотя кто их знает, кому они теперь поклоняются и во что верят?
После этого случая итальянские солдаты ещё только один раз приходили к Ксении Фёдоровне вдвоём, а потом высокий солдат перестал к ней ходить, очевидно, завёл себе более интересное знакомство. Зато его товарищ, маленький, чуть повыше Юры, бледный, совсем не похожий на итальянца, солдатик начал ежедневно навещать Юрину бабушку. Как правило, под вечер без стука он появлялся на кухне, произносил своё постоянное buona sera[11], садился на табурет в углу у стола и просиживал так, когда полчаса, а когда и меньше. Ксения Фёдоровна сначала чувствовала себя неловко от присутствия молчаливого гостя, а потом приноровилась с его приходом заниматься каким-нибудь делом вроде вязания, штопки или починки одежды.
Итальянец в разговор с Ксенией Фёдоровной ни разу не пытался вступать. Это было технически невозможно и он, видимо, понимал это. Иной раз Ксения Фёдоровна думала, пусть бы он хоть что-то сказал, пусть это будет непонятно, но всё же это было бы каким-то подобием разговора. Но итальянец постоянно молчал и, кажется, никакого дискомфорта от этого не испытывал.
Как-то раз Ксения Фёдоровна дала ему доесть оставшуюся от обеда картошку. Солдат поблагодарил и съел, а на другой день он вытряхнул на стол из кармана шинели немного сероватой грязной соли. Забавно жестикулируя, он рассказал о том, как приобрёл эту соль. Из его рассказа Ксения Фёдоровна поняла, что он сделал «хап» и сунул горсть соли в карман, когда отвернулся повар. Ксения Фёдоровна убрала соль в коробку, а солдата угостила борщом. С этого дня она старалась хоть немного подкормить итальянца, что было очень непросто при жёсткой ограниченности в продуктах. Разговора с ним не получалось, и Ксения Фёдоровна только и узнала, что зовут его Пьетро, а дальше этого знакомство у них не пошло.
– Бабушка, а почему он к нам ходит, этот солдат? – спросил как-то Юра.
– Да кто ж его знает? – ответила Ксения Фёдоровна. – Ходит и всё. Как ему запретишь? Только он же никому не мешает.
Ксения Фёдоровна немного лукавила: ей не хотелось даже самой себе признаться в своём чисто женском сердоболии по отношению к Пьетро. Недавно он показал ей фотографию, на которой была снята его семья. Пожилые отец и мать сидели прямо и строго, одинаково положив себе на колени крупные кисти рук, за их спинами стояли трое их детей: Пьетро, его брат и сестра. По всему было видно, что люди они небогатые и праздничные костюмы, в которых они сфотографировались, надевались ими не часто. От всей души Ксения Фёдоровна пожелала Пьетро вернуться живым и здоровым домой к своим родителям. Он, конечно, не понял, что она говорила, но чувствовал доброту в её интонациях и видел сочувствие в её глазах, и поэтому, принимая из её рук фотографию, он несколько раз сказал ей:
– Grazie, signora[12].
Прожив полтора года в оккупированном городе, Ксения Фёдоровна очень опасалась немцев и полицейских. В самом начале оккупации, когда никто не знал, как придётся жить под немцем и как немцы будут обращаться с русским населением, когда всё было непонятно и боязно, в городе начали расклеивать приказы и распоряжения немецкой комендатуры. Содержание этих приказов и распоряжений было разное, а окончание у всех было одинаковое: «…за неподчинение – расстрел», «…за невыполнение – расстрел», «…за нарушение – расстрел». Под впечатлением от этих расстрельных приказов Ксении Фёдоровне с её постоянной тревогой за внука однажды приснился сон. Как будто Юра расклеивал по городу советские листовки и, скрываясь от немцев, на бегу потерял с ноги свой ботинок. Ксения Фёдоровна отчётливо, как наяву, видела ручей неподалёку от калининской школы и в грязи, у самой воды, ботинок Юры. Она со страхом поняла, что по этому ботинку немцы разыщут Юру. От непереносимого ужаса она проснулась и, пробудившись, подумала: почему Юра не вернулся за своим ботинком, почему не разыскал его? Темно что ли там было, или нельзя было возвращаться?
Отдавая себе отчёт в том, что это был только сон, Ксения Фёдоровна, тем не менее, много дней никак не могла успокоиться. К тому же в первый месяц оккупации на улице, где она жила, случилось большое несчастье. Витя Дёмин, шестнадцатилетний парень из малознакомой Ксении Фёдоровне семьи, то ли самостоятельно, то ли по чьему указанию пошёл к Новому Месту и поджёг там скирду соломы. Его схватили там и расстреляли. Подробностей никто не знал. Это потрясло Ксению Фёдоровну. Она очень боялась, что под впечатлением советских патриотических призывов, которыми были насыщены радиопередачи и газеты в начале войны, Юра так же может совершить какой-нибудь пагубный для себя и абсолютно бесполезный поступок, направленный, по его мнению, против немецких оккупантов. Но постепенно страхи её рассеялись, внук тогда был ещё мал и поведение его не вызывало опасений.
Ксения Фёдоровна решила для себя, что жить в оккупации следует так, чтобы не привлекать к себе постороннего внимания, не заводить никаких знакомств и во всех случаях держаться подальше и от немцев, и от полицейских, и от разных случайных людей. «Но вот Пьетро, – думала Ксения Фёдоровна, – зачем он приходит? Что ему надо? Общаться с ним невозможно, подкормить его просто нечем. Странный человек».
Она не испытывала неприязни к Пьетро и не боялась его, но ей было бы спокойней, если бы этот итальянец пореже заходил к ней, а ещё лучше, если бы он совсем не появлялся в её доме. Посещения Пьетро беспокоили Ксению Фёдоровну.
Из трёх мужчин, что были в её жизни – мужа, сына, внука, родная Советская власть оставила ей в живых пока только одного внука. И она просто не могла не опасаться любого, на первый взгляд даже самого безобидного, вмешательства в её жизнь, так как ничего хорошего ни для себя, ни для внука ни от кого она не ожидала.
Уберечь, спасти, вырастить внука – только этого она и хотела, только об этом были все её помыслы и заботы.
Юра к визитам Пьетро относился довольно иронически.
– Вон опять твой макаронник идёт, – говорил он бабушке, когда стукала калитка и мимо окон во дворе мелькала знакомая фигура итальянского солдата. Юра скрывался в другую комнату и не показывался оттуда, пока на кухне разыгрывалась немая сцена между бабушкой и Пьетро. Впрочем, Юре было совершенно безразлично присутствие итальянца, просто он не умел и не знал, как можно с ним общаться.
Когда окончательно растаял снег, просохла и зазеленела земля, Юра стал больше встречаться с товарищами, больше времени проводить на воздухе. Это было для него полезно и необходимо после тяжёлой зимы. Ксения Фёдоровна всегда знала, куда ходит Юра, с кем встречается, но всё же волновалась, когда он уходил из дому, и всегда с беспокойством ожидала его возвращения домой. Товарищи внука ей были хорошо знакомы: Алексей Копытин, Коля Маляров – одноклассники Юры и его друзья с раннего детства. Они читали одни книги, играли в шахматы, вместе ходили в кино, вместе катались на лыжах зимой и играли в футбол летом. Эти мальчики расставались с детством, но в них ещё очень много было детского и домашнего.
Однажды Юра сказал бабушке:
– Сегодня с Алексеем были на стадионе. Всё просохло, трава на поле выросла, а играть в футбол некому.
– Война, – отреагировала Ксения Фёдоровна, – не до футбола теперь. Ты бы, Юра, не ходил туда. Мало ли что. Этот заводила Алексей всюду бродит. Тянет его, куда не надо.
Ксения Фёдоровна не придала особого значения этому разговору, но он оказался намного значительнее, чем она могла предполагать. Во-первых, её взгляды на войну и футбол не совпадали со взглядами внука, а во-вторых, Алексей в данном случае не был заводилой, а оба они – и Алексей, и Юра – договорились собрать знакомых ребят и поиграть на стадионе в футбол. До войны и мечтать не приходилось о том, чтобы не где-нибудь посреди улицы между канавами, не в конце какого-то переулка, где растут лопухи да крапива, а на настоящем футбольном поле погонять мяч, никому не мешая и не опасаясь высадить чьё-то чужое окно. Можно ли устоять перед таким соблазном!
Но главное было даже не в этом. Главное было в том, что у Алексея имелся самый настоящий футбольный мяч с кожаной покрышкой и камерой.
Этот мяч имел не очень весёлую историю. У Алексея был дружок, соседский мальчик Хаим Элькин. Летом 1941-го года он с родителями уезжал в эвакуацию и оставил этот мяч Алексею.
– А как же ты? – спросил Алексей, не торопясь принимать дорогой подарок.
– Мы ещё точно не знаем, как у нас всё сложится, – ответил Хаим. – Какие будут условия там, где мы будем жить? Бери, Алёша. Вы же здесь останетесь, и ты, и Юра, и Коля. Играйте. Отдадите, когда я вернусь.
С футбольным мячом Хаима было связано очень много хорошего. Ведь на ближайших улицах этот футбольный мяч был единственным. Чёрт знает, чем играли мальчишки в футбол! Хорошо, если у кого имелся маленький резиновый мячик, а то просто набивали тряпками кусок старого чулка, зашивали с двух сторон и гоняли по траве это безобразие до тех пор, пока из него кишками не вылезала начинка. И вдруг Хаиму за год до войны тетя из Гомеля привезла настоящий футбольный мяч. Вот было радости! К тому же Хаим был очень хорошим пацаном, он не задавался, не воображал, а запросто всегда давал играть свой мяч даже и в тех случаях, когда по каким-нибудь причинам сам принять участие в игре не мог. Ни тётя, которая целое лето прожила в Новозыбкове, ни родители не запрещали ему так поступать. Хаим уехал, а его мяч остался у Алексея. И вполне естественно, что подошло время этому мячу быть использованным по назначению.
Юра с Алексеем рассудили так: за всё время оккупации никто ни разу не слышал о том, чтобы немцы запрещали ходить на городской стадион, мало того, стадион второй год пустовал, и ни городская управа, ни немецкая комендатура не проявляли к нему никакого интереса. Даже сторожа на стадионе не было.
– Прогонят – уйдём, – решил Алексей, и Юра с ним согласился.
Бабушке об этой затее Юра ничего не сказал: «Зачем её волновать, поиграем часок и по домам».
Компания подобралась небольшая, всего восемь человек, и потому играли в одни ворота. Алексей, Юра и ещё один мальчишка с Красной улицы были в защите, на ворота встал Коля Маляров, а остальные четверо ребят нападали. Игра сразу пошла хорошо. Как будто ни войны, ни оккупации, ни ночных бомбёжек – ничего не было, всё как-то отошло, забылось. По зелёному футбольному полю, поросшему свежей травой, бегали за мячом мальчишки, охваченные задорным стремлением к успеху и победе, как это всегда бывает в настоящей футбольной схватке. Уже были пропущены голы, уже были принципиальные выяснения отношений защитников с нападающими, были одиннадцатиметровые удары, были хорошие броски вратаря, словом, всё шло хорошо. Так оно могло бы продолжаться, так оно могло бы и закончиться, но случилось, что в это время мимо стадиона проходила группа итальянских солдат. Взлетающий над оградой мяч и игровой шум привлекли внимание итальянцев, и они завернули на стадион. Сначала они просто смотрели, как играли русские мальчишки, а потом мало-помалу один за другим подключились к игре.
Совместный футбол с итальянскими солдатами не получился: обутые в тяжёлые ботинки, крупные мужчины были неравными партнёрами для ребят, и мальчишки постепенно вышли из игры. Больше всех продержался Алексей, но, сбитый с ног и чудом увернувшийся от солдатского ботинка, он тоже оставил игру и присоединился к своим товарищам, скучавшим на травке за футбольными воротами. К ним подошёл один из итальянцев и принялся что-то быстро и горячо объяснять, показывая на часы и на выход со стадиона, из чего, вероятно, следовало понять, что они немного поиграют и уйдут.
Крепкие ботинки солдат взрывали покрытую молоденькой травкой землю, а мяч от сильных ударов мужских ног взлетал в воздух чуть ли не вровень с куполами стоявшего неподалёку Михайловского собора. Но самым неожиданным для Юры было то, что среди игравших в футбол итальянцев он увидел Пьетро. Против всякого ожидания Пьетро оказался довольно бойким футболистом, он ловко отыгрывал мяч, успешно проводил его к штрафной площадке и очень точно бил по воротам.
Судя по азарту и увлеченности игрой, нельзя было надеяться на то, что итальянцы скоро оставят это занятие.
Ребята начали скучать.
– И откуда они только взялись, – сказал Коля Маляров. – Жди их теперь, пока они наиграются.
– Знал бы Хаим, кто будет играть его мячом, – откликнулся Алексей. – В общем, влипли.
Он предложил ребятам расходиться:
– Зачем тут всем торчать? Может, кому домой надо. Мы с Юрой подождём.
Но никто домой и не ушёл, решили ждать, пока итальянцы отдадут мяч. В это время на стадионе появились два немецких офицера. Они так же, как перед этим итальянцы, сначала со стороны наблюдали за игрой, потом один из них, приняв на ногу подкатившийся мяч, повёл его прямо к воротам мимо растерявшихся от неожиданного появления нового партнёра итальянских солдат и почти беспрепятственно с близкого расстояния пробил по воротам. Однако немецкий офицер гол не забил, итальянский вратарь оказался на месте и легко взял мяч. То ли этот факт не забитого гола, то ли желание поразмяться раззадорило немца, и он принял участие в общей игре. Итальянцы отнеслись к этому нормально. Второй офицер присел на деревянный столбик от сломанной скамейки и закурил.
– Теперь пиши пропало, – сокрушенно сказал Коля. – Конца этому не будет.
Это было похоже на правду.
С появлением нового партнёра игра приняла ещё более азартный характер, и никто из играющих на ребят не обращал внимания.
Тогда Алексей предложил такой план:
– Ты вот что, Юра, иди к стрельбищу, а мы, как только мяч залетит за ворота, отобьём его к тебе. Бери мяч и уходи за насыпь. А мы – кто куда.
С одной стороны стадиона, ограждая его от улицы, было расположено стрельбище воинской части, стоявшей до войны в старинных домах на Красной площади. Два высоких земляных вала, соединяясь вместе у городского парка, образовывали замкнутое ущелье. Сюда ушёл Юра. Ожидать ему пришлось недолго, кто-то из ребят пробил на него мяч. В полный рост с мячом под рукой Юра поднялся на верх насыпи. Итальянцы по-разному отреагировали на это: одни кричали, что он молодец и пусть уходит домой, а другие всё более распаляясь, требовали, чтобы он вернулся и отдал им мяч. Ребята кричали:
– Беги! Алексей, почуяв во всей этой суматохе что-то недоброе, крикнул:
– Бросай мячик, Юра! Ну их к чёрту!
Всё это сбило с толку Юру. И он, остановившись на гребне насыпи, с опаской смотрел на резко жестикулирующих и кричащих итальянцев, на своих товарищей и не понимал, что ему следует делать. Тогда Пьетро, намереваясь как-то уладить конфликтную ситуацию, что-то сказал своим приятелям и быстро побежал к Юре. Он хотел взять у него мяч и объяснить ему, что пусть ребята идут по домам и Юра пусть уходит, а он, как только солдаты закончат игру, принесёт мяч бабушке.
Пьетро взбежал вверх по насыпи, и когда он поравнялся с Юрой и был уже рядом с ним, неожиданно для всех раздался пистолетный выстрел. Немецкий офицер, тот, который не принимал участия в игре, достал из кобуры парабеллум и выстрелил. Ему показалось, что какой-то русский парень намеревается украсть футбольный мяч.
Пуля, предназначенная Юре, попала в спину Пьетро как раз против сердца. Пьетро упал под ноги Юре и, несколько раз перевернувшись, скатился по крутой насыпи в сторону стадиона. Итальянцы подбежали к нему, но он был уже мёртв. Немецкие офицеры, переговариваясь, быстро шли к воротам стадиона.
Пьетро похоронили на Панском кладбище. Итальянские солдаты строгим траурным строем проводили своего товарища к месту погребения. Под винтовочный салют комендантского взвода рядовой 8-й итальянской армии навеки остался лежать в русской земле.
В Новозыбкове прошли слухи о том, что на стадионе во время игры в футбол немецкий офицер случайно застрелил итальянского солдата. Подробностей этого происшествия никто не знал, говорили разное. Алексей, Юра и все, кто был с ними на стадионе, договорились никому ничего не рассказывать о том, как погиб Пьетро.
– Мало ли что, – предположил Алексей, – в комендатуре начнут копать, зачем на стадион ходили, кто разрешил, почему мяч хотели унести? Не забирали бы мяч, никто не стрелял бы. Словом так – никому ни слова. А какие пацаны были на стадионе, кому это известно? Пацанов в городе много.
Алексей говорил разумно, но его опасения оказались напрасными. Немецкая комендатура никаких мер к расследованию причин гибели итальянского солдата не предпринимала.
А вскоре, в начале лета, итальянские солдаты покинули Новозыбков. Их посадили в эшелон и увезли в сторону Гомеля.
Ксения Фёдоровна первое время, когда Пьетро перестал появляться в её доме, иногда вспоминала его. Когда он постоянно навещал её, она порой тяготилась его посещениями, а с прекращением его визитов Ксения Фёдоровна временами испытывала такое чувство, как будто ей чего-то не достаёт. Как-то она сказала Юре:
– Что-то Пьетро перестал к нам ходить. Ты его нигде не встречал?
Юра ничего не сказал бабушке. Ни сразу после того страшного случая на стадионе, ни потом, спустя долгое время, он не мог не то, что говорить, а даже думать о гибели Пьетро. Его душу томило сознание собственной причастности к этому, но главное было в том, что на основании своего небольшого жизненного опыта и своих представлений о жизни он никак не находил ни объяснения, ни оправдания тому, что на его глазах погиб ни в чём неповинный человек.
После того, как итальянцы уехали из Новозыбкова, Юра с Алексеем побывали на могиле Пьетро. Они оправили осевший бугорок и обложили его дёрном. И потом они много раз приходили сюда и проделывали эту простую и праведную работу.
В 1947-м году Юру с Алексеем призвали в армию. И только тогда, перед своим отъездом из Новозыбкова, Юра рассказал бабушке, как погиб хорошо знакомый ей итальянский солдат. Ксения Фёдоровна оцепенела от ужаса, когда представила себе, как Юра, открытый и беззащитный, стоял с мячом на земляной насыпи стрельбища, а в него целился из пистолета немецкий офицер и как упал убитый Пьетро.
Она записала в поминание за упокой убиенного воина раба божьего Петра и до самой своей смерти молилась за упокой души его так же, как молилась она за души сына, мужа и своих родителей.
2
«Доброе утро» (итал.). – Прим. ред.
3
«Я художник, понимаешь! Художник!» (итал.). – Прим. ред.
4
«Рафаэль – художник! Микеланджело – художник!» (итал.). – Прим. ред.
5
«Да» (итал.). – Прим. ред.
6
«Куцехвостая» (итал.). – Прим. ред.
7
«Осёл» (итал.). – Прим. ред.
8
«Пошли на базар» (итал.). – Прим. ред.
9
«Увидимся» (итал.). – Прим. ред.
10
«Богоматерь» (итал.). – Прим. ред.
11
«Добрый вечер» (итал.). – Прим. ред.
12
«Спасибо, госпожа» (итал.). – Прим. ред.