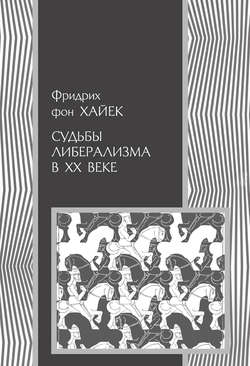Читать книгу Судьбы либерализма в XX веке - Фридрих фон Хайек - Страница 11
Часть I Австрийская экономическая школа
Глава 1 Австрийская экономическая школа[86]
Приложение
Оглавлениев Британии и США
Из четвертого поколения, которое сформировалось на частном семинаре Мизеса, сыгравшем для него такую же роль, что и Бём-Баверк для третьего поколения, лишь автор этой статьи, самый старший его участник, был действительным учеником Визера и участником его последнего семинара. Готфрид фон Хаберлер, Фриц Махлуп, Оскар Моргенштерн и Пауль Розенштейн-Родан, бывшие чуть моложе автора, поддерживали с ним тесный контакт, поскольку многие годы работали в том же здании. Под влиянием Мизеса и при постоянном участии его ровесников – философов, социологов и политологов Альфреда Шюца, Феликса Кауфмана и Эрика Фогелина – шли дискуссии главным образом о проблемах метода и философской природе общественных наук.
С начала 1930-х годов эта венская группа начала получать существенную поддержку и прирастать литературными источниками в результате того, что Лайонел Роббинс, только что назначенный профессор Лондонской школы экономики, включил в свой курс то, что прежде было исключительной принадлежностью австрийской традиции. Было еще две причины существенного влияния на дальнейшее развитие этой традиции. Первая причина – это удачная система экономической теории, разработанная единственным значительным последователем У. С. Джевонса Ф. Г. Уикстидом в его «Здравом смысле политической экономии»[122], а вторая – близкий по духу обзор текущего состояния микроэкономической теории, содержащийся в первых четырех главах исследования «Риск, неопределенность и прибыль» чикагского профессора Фрэнка Найта[123]. Частью тех же усилий было приглашение Роббинсом автора этих строк в 1931 г. на должность профессора Лондонской школы экономики, в результате чего совместный семинар Роббинса – Хайека в 1930-х годах стал еще одним центром развития того, что прежде было исключительно австрийской традицией.
Наиболее влиятельная работа самого Роббинса «Очерк о природе и значении экономической науки»[124] превратила предложенный австрийской школой методологический подход к разработке микроэкономической теории в общепризнанный стандарт. Не менее важным было достижение Дж. Хикса, разработавшего окончательную формулировку анализа ценности с позиций предельной полезности в концепции предельной нормы замещения на основе кривых безразличия, введенных Ирвингом Фишером и Ф. Эджуортом[125]. Эта концепция изменяющихся норм замещения или эквивалентности, совершенно не зависящая от какой-либо концепции измеряемой полезности, вполне может рассматриваться как итог более чем полувековых споров в русле австрийской школы[126], тогда как дальнейшие уточнения, предложенные П. А. Самуэльсоном[127], едва ли могут быть отнесены к австрийской традиции.
Еще один особый вклад в эту ветвь австрийской традиции представляет изданная в 1973 г. работа Дж. М. Бьюкенена и Г. Ф. Терлби[128]. В той же лондонской группе Г. Л. С. Шэкл и Л. М. Лахманн внесли вклад в развитие субъективной традиции, сыграв существенную роль в развитии американской ветви австрийской школы.
В 1934 г. Людвиг фон Мизес оставил Вену ради професорской кафедры в Институте высших международных исследований Женевского университета (Швейцария), а в 1940 г., опасаясь Гитлера, он переехал в США. В то время здесь, в США, интеллектуальное сообщество отнеслось к откровенному противнику всех социалистических идей безо всякой симпатии, как это было и в Вене, но постепенно из более или менее символической фигуры в Высшей школе бизнеса Нью-Йоркского университета Мизес превратился в весьма влиятельного человека[129]. Долгие годы австрийскую школу в США отождествляли со сторонниками Мизеса. Первыми выдающимися учениками, которые добились весьма почетного положения, были Мюррей Ротбард и Израэл Кирцнер. В 1970—1980-х годах группа существенно разрослась, и сегодня наиболее заметен, пожалуй, Томас Соуэлл. Однако сам Мизес был привержен строго рациональному утилитаризму куда больше, чем ранние австрийцы, и это не вполне согласовывалась с его фундаментальным субъективизмом, а в особенности со свойственным ему отрицанием возможности межличностного сравнения полезностей, или измерения благосостояния. Это снижало убедительность его эпистемологии и его критики социализма.
Хотя к третьей четверти XX в. методология австрийской школы заняла господствующее место в области микроэкономической теории, этот подход был в существенной степени вытеснен из центра профессионального внимания кейнсианской макроэкономикой. Но параллельные усилия, порожденные успехом кейнсианского учения, были с точки зрения австрийского методологического индивидуализма результатом ошибочного представления о том, чем должно быть научное объяснение весьма сложных явлений. Таким образом, австрийская школа вторично ввязалась в своего рода Methodenstreit, в котором ее противники претендовали на большую научность просто в силу более эмпирического характера своих выводов, т. е. потому что они более непосредственно основывались на наблюдении и измерении (хотя на этот раз скорее статистических, чем исторических). Ситуация (по меньшей мере в США) становилась весьма непростой, потому что Мизес, представлявший здесь австрийскую школу, занял отчасти крайнюю позицию по отношению к господствовавшему в то время научному позитивизму. Одновременно, правда, он делал большие уступки англо-американской традиции рационалистического утилитаризма, который вполне встраивался в австрийскую методологическую традицию. В результате в версии Мизеса вся экономическая теория приобрела характер априорно выводимого логического построения.
На это автор настоящей статьи возразил[130], в то время в целом не понимая, что он просто развивает забытую часть традиции Менгера, что хотя чистая логика выбора, с помощью которой австрийская традиция интерпретирует индивидуальные действия, и в самом деле является чисто дедуктивной, но, как только объяснение переходит к межличностной активности на рынке, решающими оказываются процессы передачи информации между индивидами, т. е. чисто эмпирические явления (Мизес так и не ответил на эту критику, но точно так же он не изменил свою вполне законченную и развитую систему).
Главным достижением теории австрийской школы, таким образом, стало то, что она помогла прояснить неизбежные различия между науками, изучающими сравнительно простые явления (вроде механики, которая, безусловно, первой достигла больших успехов, а потому и рассматривалась в качестве парадигмы, обязательной для копирования другими науками), и науками о чрезвычайно сложных явлениях или о структурах, испытывающих влияние большего количества фактов, чем доступно охвату ученых наблюдателей, и состоящих из объектов не физически наблюдаемых, но теоретически мыслимых, т. е. мыслимых другими людьми. То, что неявно присутствовало уже в концепции «невидимой руки» Адама Смита, которая порождала порядок, недоступный пониманию человека[131], таким образом становится прототипом модели, на которой основывается постоянно растущее количество попыток разрешить проблемы устройства весьма сложных видов порядка.