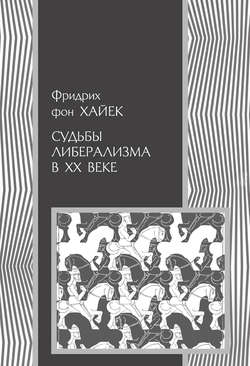Читать книгу Судьбы либерализма в XX веке - Фридрих фон Хайек - Страница 3
Часть I Австрийская экономическая школа
Пролог Состояние экономической теории в 1920-е годы: взгляд из Вены[29]
ОглавлениеХотя мне кажется, что организаторы этой лекции желали, чтобы я пустился в воспоминания, до сих пор я сознательно выбирал темы, которые были тому помехой. Заводить такую привычку опасно, и непонятно, на чем остановиться, когда обнаруживаешь, что большей части аудитории воспоминания лектора неизвестны и неинтересны. Сам я в прошлом был не самым терпеливым слушателем подобных мемуаров и сейчас даже сожалею, что в свое первое посещение этой страны, 40 лет назад, мне не хватило ума выслушать и расспросить старого биржевого брокера, который, обнаружив мой интерес к экономическим кризисам, все говорил и говорил о кризисе 1873 г. – а я счел его занудой. Не знаю, с чего бы мне ждать, что вы будете терпеливей меня в свое время, тем более что мне по собственному опыту известно: стоит лишь дать себе волю, и вырываются всевозможные мемуары, которые проливают свет скорее на тщеславие рассказчика, чем на предметы более широкого интереса.
С другой стороны, как исследователь истории экономической мысли я зачастую тратил немало сил в тщетных попытках воссоздать интеллектуальную атмосферу прежних дискуссий, желая, чтобы участники этих споров оставляли хоть какие-нибудь сведения о своих отношениях с современниками, и, в частности, чтобы они делали это в том возрасте, когда их свидетельства еще достоверны. Теперь, стоя перед вами с намерением исполнить именно эту задачу, я хорошо понимаю, почему люди большей частью ее избегают; боюсь, что в такой попытке человек становится несколько эгоцентричным, и, если вам покажется, что я чрезмерно много говорю о собственном опыте, прошу вас помнить: в том, что я говорю обо всем этом, и состоит единственное (хоть, может, и недостаточное) оправдание моих речей. Не сомневаюсь, что, если мне когда-либо случится готовить эти лекции для публикации, все эти беседы придется сильно сократить. Но, в конце концов, это устное вступление – во многом всего лишь попытка поговорить со старыми друзьями, так что я дам себе волю.
Венский университет, когда я совсем молодым поступил туда в конце 1918 г., прямо с войны, и особенно экономическое отделение факультета права, был на редкость кипучим местом. Пусть материальные условия жизни были чрезвычайно трудны, а политическая ситуация весьма неопределенна, – поначалу все это мало влияло на интеллектуальный уровень, сохранившийся с довоенного времени. Здесь я не стану рассматривать вопрос о том, почему Венский университет, который до 1860-х годов был ничем не примечательным заведением, затем на 60–70 лет стал одним из наиболее интеллектуально продуктивных в мире, дав жизнь множеству всемирно известных научных школ в области философии и психологии, права и экономической теории, антропологии и лингвистики (если считать только школы, родственные нашей сегодняшней теме). Мне и самому непонятно, чем это объясняется и можно ли вообще объяснить подобные явления исчерпывающим образом. Достаточно отметить, что период интеллектуального расцвета в точности совпал с победой политического либерализма в этой части мира и ненадолго пережил господство либеральной мысли.
Возможно, сразу после окончания Первой [мировой] войны интеллектуальное брожение среди молодежи было даже сильнее довоенного, несмотря на то что некоторые крупные фигуры довоенного времени уже ушли и в рядах преподавательского состава, по крайней мере первое время, зияли заметные бреши. Отчасти это объясняется тем, что (как стало очевидно после Второй мировой войны) студенчество было более зрелым, а отчасти тем, что военные и первые послевоенные испытания породили острый интерес к социально-политическим проблемам. Хотя некоторые из тех, кто был постарше, стремились как можно быстрее завершить курс обучения, у молодежи годы, потерянные на службу в армии, породили скорее необычное стремление полностью использовать возможности, которые они так давно предвкушали.
Многие вопросы и проблемы, которые так горячо обсуждались в Вене, оказались в центре внимания западного мира чуть позже – отчасти, разумеется, из-за обстоятельств того времени, – и вышло, что в ходе моих скитаний у меня нередко возникало чувство, что «я здесь уже был»[30]. Темы наших дискуссий в значительной степени были предопределены близостью коммунистической революции – в Будапеште, до которого было рукой подать, несколько месяцев хозяйничало коммунистическое правительство, в котором важную роль играли интеллектуальные лидеры марксизма, позднее нашедшие прибежище в Вене, – а также неожиданный академический престиж марксизма, быстрое распространение того, что со временем стали называть «государством благосостояния», концепция «плановой экономики», тогда еще новая, но прежде всего опыт инфляции, какого не помнил ни один житель Европы. В то время в Вене уже набрал силу ряд чисто интеллектуальных течений, позднее покоривших западный мир. Я упомяну лишь психоанализ и зарождение традиции логического позитивизма, которая господствовала во всех философских дискуссиях.
Впрочем, мне следует сосредоточиться на развитии экономической теории. Пожалуй, наиболее удивительное обстоятельство состоит в том, что на фоне острейших практических проблем в центре интереса в Венском университете оказалась чистая экономическая теория. В этом явно сказалось влияние маржиналистской революции[31], которая произошла в общем-то незадолго до времени, о котором я сейчас веду речь. Из великих деятелей этой революции все еще работал лишь Визер[32]. И Бём-Баверк[33], и Филиппович – двое самых влиятельных университетских преподавателей предвоенного периода (первый в сфере теории, а второй в основном в сфере экономической политики) – безвременно скончались во время войны. Карл Менгер[34] еще был жив, но он был глубоким стариком и вышел в отставку пятнадцатью годами ранее и на публике появлялся лишь изредка. Для нас, молодых, он был скорее мифом, чем реальностью, тем более что и книга его[35], исчезнувшая даже из библиотек, стала огромной, почти недоступной редкостью. Среди тех, с кем мы сталкивались, немногие имели прямой доступ к нему. Старшекурсники были переполнены живыми воспоминаниями о семинарах Бём-Баверка, которые в предвоенные годы, несомненно, собирали всех, интересовавшихся экономической теорией. Наши ровесницы, напротив, были полны впечатлений о Максе Вебере, который читал семестровый курс в Вене как раз перед окончанием войны, когда мы, мужчины, еще не вернулись с фронта.
Визер, последняя живая связь с великим прошлым, большинству из нас казался надменным и недосягаемым господином. В то время он только что вернулся в университет с поста министра торговли в одном из последних правительств империи. Он читал лекции, опираясь на свою изданную перед самой войной «Теорию общественного хозяйства»[36], которую, кажется, знал наизусть, – единственный систематический трактат по экономической теории, созданный австрийской школой[37]. Лекции были несколько суховатым, но внушительным и эстетически приемлемым действом, рассчитанным по большей части на будущих юристов, для которых этот обзор экономической теории стал бы единственным их прикосновением к предмету. Лишь тем, кто, собрав в кулак все свое мужество, отваживался после лекции приблизиться к величественной фигуре, удавалось обнаружить бездну дружелюбия и благожелательности, а также получить приглашение на его малый семинар или даже на домашний обед.
Вначале у нас были два других постоянных преподавателя экономической теории: марксист, занимавшийся историей экономики[38], и молодой, склонный к философствованию профессор Отмар Шпанн, который вначале вызвал у студентов прилив энтузиазма. Ему было что сказать о логике взаимосвязи между целями и средствами, но вскоре он перебрался в область философии, которая большинству из нас казалась совершенно чуждой экономической теории. Но его небольшой учебник по истории экономической мысли[39], который считали слепком менгеровских лекций, для большинства из нас был первым вводным курсом в эту область.
Хотя в области политических и экономических наук только что были учреждены ученые степени, большинство из нас все еще ориентировалось на степень в юриспруденции, для получения которой требовалось очень незначительное знакомство с экономической теорией, так что профессиональные экономические знания приходилось добывать самостоятельным чтением, а также из лекций тех, кто читал их в свободное время из любви к предмету. Важнейшим среди таких курсов был курс Людвига фон Мизеса[40], но лично я познакомился с ним относительно поздно и расскажу о нем потом.
Здесь я должен сказать несколько слов об особенностях организации университетов в Центральной Европе, особенно в Австрии. Специфику структуры австрийского университета обычно мало кто понимает, хотя она – при всех своих недостатках – сыграла важную роль в сплочении штатных университетских профессоров и любителей в лучшем смысле этого слова, что было столь характерно для атмосферы Вены. Число штатных преподавателей университета (профессоров и адъюнкт-профессоров) всегда было невелико, и эти должности получали обычно уже в сравнительно немолодом возрасте, как правило – после сорока или даже пятидесяти лет. Но, чтобы получить право на такое назначение, следовало сначала, обычно через несколько лет после защиты докторской степени, получить лицензию на преподавание в качестве приват-доцента, которому не полагалось никакого жалованья, кроме доли в той весьма незначительной плате, которую взимали со студентов за прослушивание конкретных курсов. В естественных науках, где исследования можно вести только в специальных институтах, приват-доценты обычно занимали оплачиваемые должности ассистентов, что позволяло им целиком посвятить себя научной работе. Но во всех неэкспериментальных областях, таких как математика, право и экономика, история, филология и философия, таких возможностей не было. До Первой мировой войны академическая среда пополнялась, как правило, выходцами из класса с независимым доходом, которого почти все они лишились в ходе великой инфляции, так что единственный выход состоял в том, чтобы зарабатывать на жизнь чем-то другим, а свободное время посвящать исследованиям и – немного – преподаванию. На юридических факультетах, к которым, как вы помните, относилась и экономическая наука, обычным выбором было место государственного служащего либо, что еще привлекательнее, служба в торговых или промышленных компаниях, либо юридическая практика; в области изящных искусств было распространено преподавание в средних школах – чтобы пересидеть время, пока не удастся достичь вожделенной профессорской должности, если это вообще удастся – приват-доцентов всегда было намного больше, чем профессоров. Видимо, больше половины тех, кто стремился к академической карьере, так и оставались на всю жизнь внештатными преподавателями, которые учили всему, чему им хотелось, но практически ничего за это не получали. Постороннего наблюдателя, особенно иностранца, сбивало с толку то, что спустя несколько лет приват-доцентов также стали именовать профессорами, но это никак не изменило их положения. Правда, в некоторых профессиях, таких как медицина и право, престиж титула мог иметь немалое значение, и, получив право именовать себя «профессором», врач или адвокат получали возможность резко повысить свои гонорары. Зигмунд Фрейд, например, был профессором Венского университета единственно в этом смысле. Это не значит, конечно, что некоторые из этих людей не обладали столь же большим влиянием, как штатные профессора. Еженедельные два-три часа лекций или ведение семинаров позволяли порой одаренному педагогу оказывать большее влияние, чем штатные преподаватели – хотя монополия последних на прием аттестационных экзаменов серьезно ограничивала влияние внештатников.
Во всяком случае, для юристов и экономистов эта система была благотворна не только тем, что все университетские преподаватели приобретали изрядный опыт практической работы, но и тем, что она обеспечивала тесные связи между академической средой и практической деятельностью. Очень многие из наиболее одаренных выпускников, не сумевших получить степень приват-доцента сразу, не исключали для себя возможность такой карьеры в будущем и посвящали некоторое время научным исследованиям, что служило сохранению традиции Privatgelehrte, частного ученого, которая в XIX в. играла значительную роль, в Австрии, может, и не такую огромную, как в Англии, но все же некоторым образом значимую. В нашей области интересным примером из 1880-х годов является одна из лучших австрийских работ по математической экономике, «Теория цены» Рудольфа Аушпица и Рихарда Либена[41], из которых первый был сахарным фабрикантом, а второй – банкиром. Несколько подобных фигур было и после Первой [мировой] войны, и по крайней мере один из них – финансист Карл Шлезингер, написавший интересное исследование о деньгах[42] и придумавший термин «олигополия» – постоянно принимал участие в наших дискуссиях. Несколько крупных чиновников и промышленников, ранее сделавших себе имя в экономической науке, в эти неспокойные послевоенные годы были слишком заняты и погружаться в науку могли лишь урывками.
По моим наблюдениям, эти непрофессионалы, посторонние для академических кругов, всегда составляли большинство на заседаниях небольшого неформального венского клуба «Nationalokonomische Gesellschaft»[43], который с трудом пережил войну и возродился в мирное время как главная арена дискуссий по насущным экономическим проблемам. Хотя он и был единственным местом, где пять – шесть раз в год могли встречаться и обсуждать проблемы молодые и старые, академические ученые и практики, для нас, молодых, куда важнее были другие возможности более регулярно дискутировать вне стен университета. На протяжении большей части межвоенных лет важнейшим центром был так называемый частный семинар Мизеса (Priv at seminar), хотя он, в сущности, стоял совершенно вне университетской жизни. Проводившиеся раз в две недели по вечерам в кабинете Мизеса в Торговой палате, эти встречи неизменно завершались глубокой ночью в какой-нибудь кофейне. Должно быть, эти частные семинары начались в 1922 г. и закончились, когда в 1934 г. Мизес покинул Вену – точнее сказать не могу, потому что меня не было в Вене ни при начале, ни при конце семинара[44]. Но с 1924 по 1931 г., благодаря тому, что Мизес нашел мне и Хаберлеру работу в этом же здании, и Хаберлер в должности помощника библиотекаря продолжил начатую Мизесом работу по превращению библиотеки Торговой палаты в лучшую экономическую библиотеку Вены, здание Торговой палаты и проводившиеся там семинары были по меньшей мере столь же важным центром экономических дискуссий, как и сам Венский университет.
Три-четыре обстоятельства придавали особенный интерес этим дискуссиям в кружке Мизеса. Мизес, естественно, не меньше любого другого интересовался базовыми проблемами анализа с позиций предельной полезности, вокруг чего вращались почти все дискуссии и в университете. Но такие вопросы, как согласование анализа предельной полезности с теорией вменения полезности, что, кстати говоря, было главным предметом моего интереса в начале 1920-х годов, или другие тонкие проблемы маржиналистского подхода, вроде разбираемых Розенштейном-Роданом в его статье о Grenznutzen (предельной полезности) в «Handworterbuchder Staatswissenschaften»[45], уже не привлекали столь пристального интереса в университете, как это было во времена Визера или его преемника Ганса Майера. Во-первых, Мизес уже в 1912 г. опубликовал свою «Теорию денег»[46], и я едва ли преувеличу, сказав, что в период великой инфляции он единственный в Вене, а может быть, и во всем немецкоязычном мире, действительно понимал, что происходит. В этой книге он также представил и развил некоторые идеи Викселля[47], чем заложил основу для теории кризисов и депрессий. Позднее, сразу же после окончания войны, он опубликовал малоизвестную, но чрезвычайно интересную книгу на стыке экономики, политики и социологии[48] и уже готовил к изданию выдающийся трактат «Социализм»[49], который, подняв проблему возможности рационального экономического расчета в отсутствие рынков, поставил одну из основных проблем дискуссий того времени[50]. Он был фактически единственным (по крайней мере среди людей своего поколения, поскольку в предыдущем поколении было несколько людей вроде Густава Касселя, к которым это также относится), кто демонстрировал готовность до конца защищать принципы свободного рынка. И даже в то время страстный интерес к тому, что мы теперь называем либертарианскими принципами, соединялся у него с интересом к методологическим и философским основаниям экономической теории, что стало столь характерным для его поздних работ. Именно последнее обстоятельство так привлекало к семинарам Мизеса тех, кто не только не разделял его политические позиции, но и не интересовался техническими аспектами экономической теории. Особый характер этим дискуссиям сообщало постоянное присутствие на них таких людей, как Феликс Кауфман, который был по преимуществу философом, или социолог Альфред Шюц, а также ряд других, о которых я еще буду говорить.
Прежде чем рассказывать о группе, которая участвовала во всех этих дискуссиях, скажу несколько слов об источнике того непреклонного либерализма, который делал Мизеса совершенно уникальным и даже одиноким в своем поколении – по крайней мере в немецкоязычном мире. Безусловно, Мизес не был просто реликтом прежнего времени, как это может показаться молодым, потому что между ним и последними классическими либералами пролегло целое поколение. И хорошо известно, что он, начиная исследования, был столь же привержен идее социальных реформ, как любой другой юноша его поколения. Карл Менгер, который еще преподавал, когда Мизес приступил к занятиям, был именно классическим либералом (хотя я не думаю, что Мизес посещал его лекции[51]). Но, хотя четвертая из знаменитых книг Менгера о методе[52] и содержит наметки того, что я прежде назвал теорией стихийного роста, образующей фундамент для политики свободы, он никогда не был догматическим или агрессивным либералом[53]. В следующем поколении Визер, Бём-Баверк и Филиппович, безусловно, назвали бы себя либералами, и мне случилось удостовериться, что по крайней мере у первых двух, как и у многих современных им континентальных либералов, общеполитические взгляды были в сущности теми, какие мы находим в эссе Т. Б. Маколея[54], которого оба они внимательно изучали.
Но у Визера и особенно у Филипповича этот либерализм включал немало аргументов в пользу регулирования, – по крайней мере для решения проблем рынка труда и социальной политики: Филиппович, в сущности, был скорее фабианцем, чем классическим либералом. Пожалуй, Бём-Баверк был исключением и остался до конца подлинным либералом, а его последнее эссе «Регулирование или экономические законы?»[55] можно даже рассматривать как начало возрождения либерализма. Но Мизес совершенно выломился из рядов своего поколения и сознательно держался в стороне как изолированный несгибаемый либерал, а за материалом для возводимого им здания новой либеральной доктрины ему пришлось пуститься в плавание по неведомым морям английских источников XIX в., поскольку текущая немецкая литература едва ли позволяла ознакомиться с принципами истинного либерализма. Но к тому времени, о котором идет речь, он уже нашел в Лондоне близких ему по духу Эдвина Кеннана и Теодора Грегори, и именно с начала 1920-х годов установились связи между австрийской и лондонской группами либералов.
Либерализм Мизеса не только вовлек его в непрекращающуюся полемику со сплоченной группой венских марксистов, где несколько светочей были его школьными приятелями, которая через Отто Нейрата оказывала сильное влияние на формировавшуюся тогда в «Венском кружке» группу философов-неопозитивистов; его либерализм колол глаза и обширной группе полулибералов, к которой принадлежало, вероятно, большинство тогдашних молодых интеллектуалов. А строго говоря, к этой группе принадлежали все мы, кто не был в ту пору марксистом, и только постепенно и очень медленно некоторые склонились к точке зрения Мизеса. Подозреваю, что даже в Privatseminar большинство в душе оставались полу-социалистами, а еще больше было тех, кто покидал семинар из протеста против постоянного возвращения дискуссий к принципам либерализма, хотя одним из главных источников силы этих дискуссий как раз и были систематические попытки ответить на вопрос: что же случится, если государство воздержится от вмешательства?
Прежде чем рассказывать дальше о среде, в которой формировались взгляды моего поколения, я должен сказать несколько слов о тех, кто занимал промежуточное положение между нами и поколением Мизеса и Шумпетера[56]: о тех троих, кто умер сравнительно рано и чьи работы заслуживают большей известности. Ни один из них никогда не входил в штат университетских профессоров, хотя их вклад в разработку экономической теории был значителен. Во-первых, Рихард Штригль, которого мы все рассматривали как достойного и законного претендента на должность профессора Венского университета и который, проживи он подольше, смог бы наилучшим образом продолжить традицию. Его исследование теории заработной платы[57] принадлежит к числу лучших в этой области, а кроме этого он внес существенный вклад в теорию капитала. Хотя он долго был приват-доцентом и в конце концов получил титул профессора, его постоянным местом работы была Промышленная комиссия, которая управляла работой биржи труда и другими аналогичными организациями. Был еще Эвальд Шаме[58], единственный во всей нашей группе студент Шумпетера в университете Граца и, похоже, единственный, кто был хорошо знаком с работами Вальраса и Парето. Его эссе о методах и логике экономической теории – истинные жемчужины, демонстрирующие аккуратность и точность, присущие этому страстному коллекционеру бабочек, который в числе прочего был юридическим советником в одном из отделов ведомства федерального канцлера. Третьим в этой группе был блистательный Лео Шёнфельд (позднее принявший имя Лео Илли), настолько перегруженный обязанностями бухгалтера, что мы виделись с ним редко, но при этом сумевший издать последний большой трактат на традиционно главную для австрийской школы тему – о теории субъективной ценности[59].
Разнообразие занятий людей моего поколения, прежде чем все они стали профессорами американских университетов, еще поразительней. Философ, правовед, логик и математик Феликс Кауфман возглавлял Венское отделение крупной нефтяной компании. Социолог Альфред Шюц служил секретарем ассоциации малых банков. Фриц Махлуп был производителем картона; историк Фридрих Энгель-Яноши занимался производством паркета; Д. Г. Фюрт, позднее занявший место в Совете управляющих Федеральной резервной системы, и Вальтер Фройлих, позднее осевший в университете Маркетта, были практикующими юристами. При нормальном ходе событий ни один из них не стал бы штатным преподавателем университета, и лишь немногие имели опыт преподавания в университете до того, как покинули Вену. И все же для формирования общей системы знаний участие каждого из них было не менее важным, чем роль таких относительных профессионалов, как я, которому после четырех лет государственной службы посчастливилось стать директором экономического исследовательского института[60], или Оскар Моргенштерн[61], который вскоре после этого стал моим сотрудником, а позднее преемником на посту директора, или Хаберлер, о занятии которого я уже упоминал, или Розенштейн-Родан, занимавший должность ассистента в университете, и который вместе с Моргенштерном издавал «Zeitschrift fur Nationalokonomie». Легко представить, что дискуссии даже по проблемам прикладной экономической науки в этом кружке редко ограничивались вопросами чистой экономической теории. Через Кауфмана мы познакомились с правовым позитивизмом Кельзена и его группы; столь же важен был логический позитивизм Шлика и его кружка, и именно он преподал нам основы современной философии науки и символической логики. Через Шюца мы все познакомились с феноменологией Макса Вебера и Гуссерля (которую я так никогда и не смог понять, несмотря на уникальный преподавательский дар Кауфмана, помогавшего в этом деле Шюцу).
Относительная закрытость нашей группы в немалой степени объясняется обстоятельствами послевоенной жизни, которые принуждали к замкнутости и опоре исключительно на собственные ресурсы. Но, помимо особенностей времени, которые на несколько лет затруднили даже доступ к иностранной литературе, а заграничные поездки сделали почти невозможными, действовали и другие факторы. Сегодня, видимо, трудно даже представить, сколь скудными были личные контакты или обмен мыслями между учеными разных стран всего лишь пятьдесят или сорок лет тому назад. Я убежден, что, не считая обмена случайными письмами, из крупных экономистов, живущих в разных странах, в период перед Первой мировой войной очень немногие встречались друг с другом лично. Непосредственно перед войной было несколько робких попыток преодолеть эту разобщенность. Одной из таких попыток стал первый обмен профессорами между американскими и европейскими университетами; не лишен значения тот факт, что одним из первых, если не самым первым австрийцем, который участвовал в этой программе обмена, был Шумпетер, приехавший в 1913 г. в Гарвард. Я думаю, что во многом именно благодаря этому мы в Вене в первые послевоенные годы лучше знали труды американских теоретиков Джона Бейтса Кларка[62], Томаса Никсона Карвера, Ирвинга Фишера, Франка Феттера и Герберта Джозефа Давенпорта, чем работы любых других иностранных экономистов, за исключением, может быть, шведов. Довоенный визит в Вену Викселля вспоминали как большое событие, а сразу после войны Густав Кассель был самым знаменитым экономистом, который читал лекции и публиковал статьи во всех европейских странах – столь же переоцененный тогда, сколь недооцениваемый ныне. Но для нас он представлял небольшой интерес, хотя мы и были рады тому, что его упрощенная версия теории Вальраса вызвала в Германии оживление интереса к экономической теории.
Но вернемся на миг к довоенной ситуации. Насколько исключительно редкими были случаи общения между экономистами разных стран, особенно разных континентов, видно из сохранившегося у Визера яркого воспоминания о редком событии – о встрече, которую организовал в Швейцарии незадолго перед войной Фонд Карнеги для обсуждения запланированной серии публикаций. И я не могу здесь обойти случайную встречу Альфреда Маршалла с некоторыми австрийскими коллегами, о которой рассказывает в своих воспоминаниях г-жа Маршалл[63] и о которой я расскажу здесь так, как мне об этом рассказывал Визер, – даже если некоторые, может быть, уже слышали этот мой пересказ ранее. Семьи Маршалла и Визера некоторое время, полагаю, проводили летние отпуска в одной и той же деревушке в Южном Тироле, который тогда принадлежал Австрии. Они довольно скоро выяснили, кто их случайные соседи, но оба были довольно робкими людьми и не очень разговорчивыми, а потому не предпринимали попыток познакомиться. Однажды Бём-Баверк, в компании, думается, с еще одним представителем австрийской школы, приехал навестить своего шурина Визера и, будучи страстным и блистательным собеседником (порой он даже обижался на нежелание своего шурина вступать в обсуждение экономических проблем), воспользовался возможностью представиться Маршаллу, с которым переписывался и прежде. Г-жа Маршалл устроила чай, о котором она и вспоминает и который даже запечатлен на фотографии. По-видимому, все было очень приятно и дружественно. Но на следующий год и Визеры, и Маршаллы, не сговариваясь, выбрали другое место летнего отдыха, где могли работать без помех, не встречаясь с коллегами.
Раз речь зашла о знаменитых экономистах – мастерах поговорить, вы зададитесь вопросом, отчего я еще ни слова не сказал о Шумпетере, самом блистательном собеседнике среди знакомых мне экономистов, за исключением разве что Кейнса, с которым у Шумпетера было много общего, в том числе проказливый зуд pour epater le bourgeois[64], а также определенная претензия на всезнайство и склонность сильно преувеличивать свою исключительную эрудицию[65]. Что касается Шумпетера, дело в том, что, прожив после войны несколько лет в Вене, он практически не завел контактов с другими экономистами и почти не встречался даже с теми, с кем общался на семинаре Бём-Баверка. Конечно, каждый из нас знал две его довоенные книги и эссе о деньгах[66]. Но мы почти не встречались с ним, и некоторые его высказывания о текущих делах составили ему среди экономистов репутацию enfant terrible[67]. К тому же, на его беду, в тот краткий период, когда он в самый разгар инфляции[68] занимал пост министра финансов, ему пришлось подписать декрет, в соответствии с которым долги, сделанные в хороших полноценных кронах, могли быть законно погашены равным количеством обесцененных крон – то есть «Krone ist Krone», как говорили тогда, – и вышло так, что у среднего австрийца моего поколения лицо багровеет при одном упоминании имени Шумпетера. Потом он стал президентом одного из небольших венских банков, который процветал в период инфляции, но быстро разорился после стабилизации экономики, а потом Шумпетер вернулся к профессорской жизни в Бонне, в Германии. Я должен добавить: им восхищались и при этом недолюбливали люди его поколения и старше, а все, кто знаком с подробностями его отношения к пострадавшим от банкротства вкладчикам банка, с большим уважением отзываются о его поведении в этой ситуации.
Я лишь однажды встретился с ним в это время и расскажу об этом, поскольку причиной нашей встречи была программа возобновления и быстрого расширения международных связей. Чуть больше сорока лет назад я решил, что для честолюбивого экономиста крайне важно посетить США, как-то умудрился наскрести денег на это путешествие и почти заручился обещанием работы в случае, если я попаду-таки в Америку. Затем Визер попросил Шумпетера дать мне рекомендательные письма его друзьям в США. Так я оказался в его величественном кабинете – кабинеты президентов банков чем дальше на восток, тем грандиознее, и кабинету Шумпетера следовало бы располагаться в Бухаресте, а не в Вене, – и он снабдил меня пакетом максимально любезных рекомендательных писем ко всем крупным американским экономистам, настоящими посольскими верительными грамотами такого большого формата, что мне пришлось завести особую папку, чтобы они не помялись в пути. Эти письма оказались настоящими ключами к пещере сокровищ: возможно потому, что после войны я был первым экономистом из стран Центральной Европы, посетившим США, меня явно сверх всяких моих заслуг принимали такие экономисты, как Джон Бейтс Кларк, Селигмен, Сигер, Митчелл[69] и Г. Ф. Уиллис в Нью-Йорке, Т. Карвер в Гарварде (из-за краткости визита я не сумел встретиться с Тауссигом), Ирвинг Фишер в Йельском университете и Джейкоб Холландер в университете Джона Хопкинса. Именно благодаря этим рекомендательным письмам мне позволили выступить с завершающим докладом на последнем семинаре Дж. Б. Кларка – не о теоретических проблемах, а об экономической ситуации в Центральной Европе. И, наконец, когда мои надежды на получение работы не оправдались и мои небольшие средства иссякли, мне не пришлось мыть посуду в ресторане на Шестой авеню, в который меня уже приняли на работу, зато Джереми Дженкс из университета Нью-Йорка (точнее, из института Александра Гамильтона) нашел для меня место ассистента, что позволило мне посвятить свое время более интеллектуальным занятиям. Годом позже была предоставлена первая стипендия фонда Рокфеллера – по крайней мере первая для бывших врагов по войне – ив США хлынул все возрастающий поток европейских студентов, что и сделало такие контакты обыденными.
Должен признаться, что при моей увлеченности чисто теоретическими вопросами первое впечатление об экономической науке США оказалось разочаровывающим. Я быстро обнаружил, что великие имена, бывшие для меня родными, воспринимались моими американскими сверстниками как старомодные, что работа в намеченном ими направлении была прекращена, а имя Уэсли Клэра Митчелла, которым только и клялась тогда молодежь, было единственным, которого я не знал, пока не получил рекомендательного письма к нему от Шумпетера. Главными темами дискуссий были деловой цикл и институционализм. Именно в этот год был опубликован сборник под редакцией Рексфорда Гая Тагвелла[70] «Тенденции развития экономической науки» («The Trend of Economics»), претендовавший на роль программы институциональной школы. Первое, к чему принуждали заезжего экономиста, был визит в Новую школу социальных исследований, где требовалось выслушивать, как Торстейн Веблен саркастически и почти неразборчиво бормочет что-то перед группой восторженных пожилых дам – поразительно неприятное впечатление[71]. Похоже, что наиболее полезной и основательной из тогдашних дискуссий было обсуждение политики центрального банка, которое вращалось вокруг важного отчета Совета управляющих федерального резерва за 1923 г. Лозунгом тогдашних дискуссий, в рамках которого обсуждались все эти вопросы, была «стабилизация». Для меня так и осталось загадкой, каким образом стабилизация уровня цен или любого другого поддающегося измерению параметра может устранить воздействие тех разрушающих равновесие сил, которые исходят со стороны денег. Единственная статья, которую я написал в то время, была попыткой показать, что нельзя стабилизировать покупательную способность денег одновременно и внутри страны, и за рубежом. Я так и не опубликовал эту статью, потому что прежде чем я смог изложить ее на приличном английском, чтобы было не стыдно перед редактором, Кейнс выпустил свой «Трактат о денежной реформе»[72], в котором излагалась та же точка зрения. Мне кажется, что многих экономистов того времени этот трактат поразил совершенно новым подходом, хотя может показаться удивительным, сколь поздно до общего понимания доходят такие сравнительно простые вещи.
В то время все были зачарованы попытками экономических прогнозов, в особенности работами над созданием экономического барометра Гарвардской экономической службы; как бы сомнительно все это ни выглядело в ретроспективе, но знакомство с этими работами и с совокупностью методов обработки временных рядов экономических показателей было, как ни стыдно в этом признаваться, важнейшей – для профессиональной карьеры – практической частью добычи, с которой мы, экономисты, возвращались из США. Но было и существенное преимущество в том, что нам пришлось познакомиться с современными методами экономической статистики, которые тогда были еще совершенно неизвестны в Европе.
Не приходится сомневаться, что именно этот опыт посещения Америки подтолкнул меня и многих других к исследованию проблем взаимоотношений между денежной теорией и деловым циклом. Пожалуй, самым интересным исходным пунктом анализа служили ныне забытые, но тогда усиленно обсуждавшиеся теории «недопотребления» Фостера и Кэтчингса[73]. Но я счел эти работы, равно как и критические отклики на них (которые заслужили бы приз на самую злобную критику) удовлетворительными не более, чем результаты эмпирических работ Митчелла, которые ставили больше вопросов, чем давали ответов. Все это скорее отсылало меня назад к Викселлю и Мизесу, и побудило меня к попытке развить на заложенном ими фундаменте подробный анализ последовательных стадий делового цикла, в который мы все тогда еще верили. Именно над этим я работал большую часть тех семи лет, которые провел в Вене после возвращения из Америки. Когда я счел, что решение найдено, я набрался смелости опубликовать краткий очерк под названием «Цены и производство»[74]. Но вскоре мне стало ясно, что теория капитала, на которую я опирался, представляет собой чрезмерно упрощенную конструкцию для задуманной мной грандиозной надстройки. В результате большую часть следующего десятилетия я посвятил развитию более удовлетворительной теории капитала. Боюсь, что до сих пор эта часть экономической теории представляется мне наименее разработанной. Впрочем, я уже исчерпал время, отведенное на эту лекцию.
О второй половине 1920-х годов сказать особенно нечего. Может из за того, что я был главой научно исследовательского института, занимавшегося изучением делового цикла, мне представляется, что в центре общего внимания был американский экономический бум и гадания о том, сколько же он продлится. Репарационные платежи и проблема трансфертов были еще одной популярной у теоретиков темой, но я никогда особо не интересовался теорией международной торговли, и книга Хаберлера[75] вполне достойно подытоживает тогдашние дискуссии. Скорее всего, общие усилия теоретиков были направлены к интеграции различных школ. Мы в Вене были поглощены простым усвоением потока новых идей, которые шли отовсюду, в основном из Англии (одним из самых интересных авторов был Хоутри), однако все больше и больше из США.