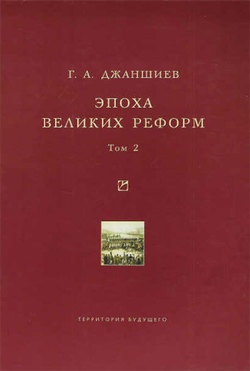Читать книгу Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 2 - Григорий Аветович Джаншиев - Страница 2
VI
Судебная реформа
Глава восьмая
Судебные уставы императора Александра II[1]
(Справка к 30-летию)
II
ОглавлениеНаш нормальный путь не подражание, а разумное применение общих начал, выработанных юридическою наукою.
Н. А. Буцковский
Обращаемся к истории составления Судебных Уставов. В течение всей почти двадцатилетней подготовки своей, судебная реформа шла мимо того самого ведомства, которое непосредственно было заинтересовано в реформе судебных учреждений, – мимо Министерства юстиции. Объясняется это помимо общих причин тем, что с 1832 г. во главе министерства стоял «нескладный видом, идеями и деяниями», по выражению Валуева, гр. В. Н. Панин, холоп в душе и вместе с тем деспот, выше закона и правосудия ставивший причуды своего сумасбродного произвола и обозленной фантазии, ярый защитник крепостного права, плетей, клеймения, цензуры, словом, окаменелый консерватор, типичнейший представитель тридцатилетнего тупого коснения, при всеобщем безмолвии провозглашавший для самоуслаждения, согласно принципам «официальной лжи»: «все обстоит благополучно»[7].
Работы по судебному преобразованию находились в руках главноуправляющего II отделением Е.И.В. канцелярией, гр. Д. Н. Блудова. Одновременно с составлением проекта Уголовного Уложения 1845 г. начаты были подготовительные работы и по улучшению гражданского процесса. В 1843 г. гр. Блудов затребовал от членов судебного ведомства замечания о доказанных практикою недостатках действующего судебного законодательства и, на основании полученных сведений, составил «предложение» о некоторых необходимых улучшениях. Не трудно догадаться о характере их. В это время всеобщего умственного гнета и законодательного застоя, время боязни пред решительными преобразованиями и пристрастия к полумерам, заплатам на старом рубище, предложенное гр. Блудовым мероприятие также носило чисто паллиативный характер (стало быть, вот к какому заскорузлому времени относится план «частичных реформ», рисующийся в таком обольстительном свете Фуксу и его единомышленникам!). О необходимости полного переустройства и дезинфекции зараженного насквозь здания старого тайного суда, известного всем своею чудовищною продажностью невероятным невежеством, бесконечной волокитой, никто и не думал, менее же всех министр юстиции гр. Панин.
Гр. Блудов ограничивался проектированием второстепенных технических улучшений, вроде: отмены рукоприкладства, указания секретарем «приличных к делу» законов, сокращения числа инстанций и т. п. Он входил по этим предметам в бесконечную переписку с тогдашним министром юстиции гр. В. Н. Паниным, который, находя «новшества» слишком смелыми «теоретическими» (sic) увеличениями, с неустанною энергиею отстаивал каждую мелочь действующего процесса, как драгоценное наследие «столетнего творчества» (вот, наконец, объявились те пресловутые подьяческие «законы исторического развития», нарушение которых ставят реакционеры в вину судебной реформе!).
Гр. Блудов, догадавшись, что из этой бесплодной переписки, что из этого «труда, тяжкого до бесконечности», не может выйти ничего путного, решил махнуть рукою на неизлечимого маньяка гр. Панина[8] и сосредоточить дело судебного преобразования при состоящем под его главным управлением II отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. С этою целью он исходатайствовал в 1850 и 1852 годах Высочайшие повеления об учреждении при II отделении комитетов для составления проектов уставов уголовного и гражданского судопроизводств. В состав гражданского комитета вошли – товарищ министра юстиции Илличевский, сенаторы Веймарн, Губе (потом член Государственного совета), Карниолин-Пинский, член консультации Министерства юстиции Карцев, замененный впоследствии обер-прокурором 1 департамента сената Любощинским. Делопроизводителем был назначен астроном по образованию и юрист-самоучка, впоследствии знаменитый цивилист С. И. Зарудный, вложивший впоследствии всю свою душу в дело судебной реформы и так много сделавший в последний фазис ее развития[9].
Не трудно сообразить, чем бы окончились труды этого комитета, если бы они были доведены до конца. По всей вероятности, мы получили бы опять новый образчик «усовершенствованного Свода» наподобие Уложения 1845 г., т. е. компромисс и компиляцию старого и нового, лишенную цельности, последовательности и, стало быть, жизнеспособности. Но до окончания работ комитета произошло событие, сообщившее реформе новую силу и окраску и вообще вдвинувшее дело судебной реформы в новый фазис.
Наступивший в обществе, вслед за воцарением императора Александра II, нравственный и умственный подъем, так сильно сказавшийся на всей политической и умственной жизни русской, сказался и на работах Блудовского комитета.
Встрепенулся и воспрянул духом и старый либерал и бывший «арзамасец» Д. Н. Блудов, восторженно рукоплескавший некогда словам Александра I, что «либеральные начала одни могут служить основою счастия народов». Казалось, тридцатипятилетний реакционный режим (1820–1855), под которым прошла вся почти государственная деятельность гр. Блудова, должен был до конца вытравить в нем все зачатки либерализма; однако, вышло иначе, и при первом же благоприятном для них веянии, они воспрянули к новой жизни, конечно, в той мере, как это возможно было у человека преклонных лет. В 1857–1860 гг. граф Блудов дал сильный толчок работам по судебной реформе и внес в Государственный совет Устав гражданского судопроизводства, Положение о присяжных поверенных, Устав уголовного судопроизводства, и, наконец, Устав судоустройства. Сравнительно с паллиативными предположениями 40-х годов гр. Блудова проекты его 1858–1860 годов составляли громадный, почти разительный шаг вперед. Даже в области наиболее консервативной, в гражданском процессе, намечены были довольно радикальные изменения сообразно требованиям «непреложных начал юридической науки»[10].
В числе этих «непреложных начал», принятых в руководство гр. Блудовым, были: почти полное отделение власти судебной от административной, уничтожение канцелярской тайны и введение адвокатуры, гласности и устности, так пугавшей гр. Панина (см. выше), введение состязательного процесса и учреждение сословия присяжных поверенных, решение дел по существу только в двух инстанциях и пр. В уголовном процессе предлагалось: устранение полиции от производства следствия, введение устности, состязательности, упразднение следственного начала, введение обвинительной системы и института защиты, значительное ослабление теории законных доказательств и представление некоторого простора судейскому убеждению, уничтожение сословных судов и пр. Таковы были те новые и противные действовавшему тогда законодательству «непреложные общие начала», введение которых считал необходимым граф Блудов. Применение некоторых «непреложных начал» стало возможным для графа Блудова только благодаря тому прогрессивному направлению мысли, которое охватило наши правительственные и общественные круги во второй половине 50-х годов после падения Севастополя, кровавая и геройски-мучительная эпопея коего бросила столь печальный и поучительный отблеск на господствовавшую в России дотоле систему управления.
7
За весь 30-тилетний период (1832–1862) гр. Панин, низведший до нуля значение сената и, прикрываясь именем Государя, хозяйничавший бесконтрольно, при содействии своего директора и l’homme pour tout faire Топильского (см. выше главу I, § 1), в судебном ведомстве, как в своей вотчиной конторе, – не провел ни одной значительной реформы по судебному ведомству. – Все почти мероприятия гр. Панина касались канцелярского распорядка и сокращения письменной работы, но они были так целесообразны, что скорее увеличивали, чем уменьшали переписку. Чтобы справиться как-нибудь с непосильной работою, канцелярии (даже в сенате) должны были нанимать писцов на стороне и собирать контрибуцию с публики. – Некоторые же «реформы» отличались таким нелепым характером опереточной буффонады, что после первого удовлетворения каприза гр. Панина, отменялись, как неисполнимые. – Так, по обнаружении подлога в одном аттестате, гр. Панин приказал не иначе принимать на службу, как по предварительной поверке подлинности аттестата, а для этого иной раз в течение целого года нужно было вести переписку. – Сведав откуда-то, что в московском сенате бумага обходится дорого, граф приказал делать заготовки в Петербурге, для чего бумага должна была сначала доставляться из Москвы в Петербург, а потом из Петербурга обратно в Москву. – Желая воспретить чиновникам ведение чужих дел в своих судах, он исходатайствовал Высочайшее повеление, коим чиновникам воспрещалось, без разрешения начальства, ведение их собственных дел во всех судах. – Признав необходимым, чтобы в записках иностранные документы печатались в подлиннике, гр. Панин поставил в безвыходное положение сенатскую типографию. Для удовлетворения причуды гр. Панина, – а все его приказы были святы, как законы или, вернее, как должны быть святы законы, – пришлось за набор английского текста заплатить 1000 р. из казны и т. д. (См .Голоса из России. Вып. VII).
– Будучи сам противником всяких «новшеств», гр. Панин и на других новаторов смотрел подозрительно, зная хорошо, что всякая серьезная реформа, а особенно введение гласности, должны положить конец его бесцеремонному топтанию ногами закона. – При Николае I существовала в 1850 г. комиссия для принятия радикальных мер к упрощению производства и, между прочим, предлагалось освободить суд от наблюдения за исполнением решений. – Catilina ante portam, примерещилось гр. Панину ввиду этой «ужасной» реформы. Сначала он старался повлиять на членов комиссии, но, потерпев фиаско, он сделал императору Николаю I доклад, в котором доказывал, что тут кроется революционное начало. Этого было довольно: комиссия прекратила свое существование. – Когда в сентябре 1857 г. Русский Вестник впервые заговорил о гласности судопроизводства, то гр. Панину показалось, что приближается конец мира. Вследствие его всеподданнейшего доклада состоялось повеление не пропускать таких возмутительных статей. – Гр. Панин не ошибся: статья катковского журнала предвещала конец, но не мира, а самовластного попирания самодуром гр. Паниным законов. – Впоследствии также не раз он требовал примерного наказания цензоров за пропуск таких статей. Однажды на замечание попечителя округа, что нужно, прежде чем наказать цензора, потребовать от него объяснения, у министра юстиции гр. Панина повернулся язык высказать такую чудовищную сентенцию: «Сначала наказать, потом потребовать объяснения». (Никитенко, II, 120). Калмыков, бывший сослуживец гр. Панина, вопреки общеизвестным историческим данным, старался реабилитировать своего принципала, выставляя его даже сторонником освобождения крестьян. (Русс. Стар., 1887. № 10 и след.).
8
Чтобы лишний раз доказать, до чего доходил тупой консерватизм гр. Панина, приведем данные о ревизии петербургского надворного суда суда 1843 г., при водимые в записках бар. Корфа. (Русск. Стар., 1899 г. № 10). Эссен долго стоял во главе петербургского управления, более двенадцати лет. Назначенный министром внутренних дел Перовский произвел в 1842 году ревизии губернских учреждений. В особенно ужасном состоянии оказался надворный суд. В нем скопилось огромное количество нерешенных дел. Для того, чтобы покончить с этими делами, повелено было назначить в надворный суд новый комплект членов и секретарей, поручив им все новые дела, а прежний состав был оставлен для разбора старых дел с тем, чтобы они покончили все в два года; если же этого они не исполнят, они будут лишены жалования. Но оказалось, что два года прошли, а дела все не были кончены, и, по-видимому, судьи находили для себя выгодным продолжать разбор дел даже и без жалованья. Подобная ревизия представила положение дела в ужасном виде. Не будем указывать здесь подробностей, но приведем общий отзыв, какой делается Корфом. Картина, вскрытая ревизией, «была тем ужаснее, что место действия происходило в столице, в цензуре управления, почти окно в окно с царским кабинетом и еще в энергическое управление императора Николая I, и после взгляда на нее, конечно, уже трудно было согласиться с теми, которые находили явившийся незадолго перед тем “Мертвые души” Гоголя одною лишь преувеличенною карикатурой. Сколько долговременный опыт ни закалил престарелых членов Государственного совета против всевозможных административных ужасов, однако, и они при докладе этого печального дела были сильно взволнованы и, так сказать, вне себя. Что же должна была ощущать тут юная, менее еще ознакомленная с человеческими жертвами душа цесаревича наследника! Слушая наш доклад с напряженным вниманием, он беспрестанно менялся в лице»… Государственный совет решил принять строгие меры к упорядочению делопроизводства в столичном надворном суде. На заседании присутствовал Эссен и все время молчал, и только после заседания говорил Корфу в свое оправдание, что и в других судах столицы такие же беспорядки, «а в управе благочиния, может статься, еще хуже». Продолжаем выписку из рассказа Корфа: «Журнал был написан мною со всем жаром того справедливого негодования, которое выражалось между членами, и я с горестным любопытством ожидал, когда и как сойдет мемория от Государя, скорбя вперед о впечатлении, которое она произведет на его сердце. Действительно, посвятить всю жизнь, все помыслы, всю энергию мощной души на благо державы и на искоренение злоупотреблений, неуклонно стремиться к тому в продолжение 17-ти лет; утешаться мыслью, что достигнут хотя какой-нибудь успех, и вдруг – вместо плода всех этих попечений, усилий целой жизни, жертв и забот – увидеть себя перед такою зияющею бездной всевозможных мерзостей, открывшеюся не сегодня, не вчера, а образовавшейся постепенно, через многие годы, неведомо ему, перед самым его дворцом – тут было от чего упасть рукам, лишиться всякой бодрости, всякого рвения, даже впасть в человеконенавидение… Это глубокое сокрушение и выразилось, хотя кратко, но со всем негодованием обманутых чаяний в собственноручной резолюции, с которою возвратилась наша мемория. «Неслыханный срам! – написал государь, – беспечность ближнего начальства неимоверна и ничем неизвинительна; мне стыдно и прискорбно, что подобный беспорядок существовать мог почти под глазами моими и мне оставаться неизвестным».
Какие же были результаты ревизии? Шушера, вроде членов надворного суда, была прогнана. Эссен был отставлен генерал-губернатором, но чрез несколько времени он получил награду, причем Николай I сказал, что не Эссен, а он сам виноват, что держал его на месте. А что же дальше? – Ничего. Ни министру юстиции, ни кому другому не приходит в голову, что нужно же устранить повторение подобных безобразий… Реформа, сохрани Боже! Поахали немного и перевернулись на другой бок: все обстоит благополучно, а злоупотребления предупредят жандармские офицеры…
9
См. книгу мою: «С. И. Зарудный и судебная реформа». М., 1888, ниже главу
о Зарудном.
10
См. т. II Дела о преобр. судебн. части Общ. Объясн. Зап. С. 3–6.