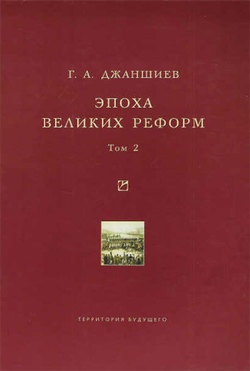Читать книгу Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 2 - Григорий Аветович Джаншиев - Страница 9
VI
Судебная реформа
Глава десятая
Открытие «Нового суда» в Петербурге
(Справка к 30-летию)
IV
ОглавлениеЛучшая часть политической прессы без различия оттенков с нескрываемым восторгом приветствовала введение Судебных Уставов в действие, как зарю «обновления России» и водворение в ней порядков, благодаря которым «становится возможным жить в ней, как в стране цивилизованной»[56]. «Одно из самых необходимых и самых плодотворных условий цивилизации, – писали „Моек. Вед“ в разъяснение значения нового суда, – есть правильное судебное устройство, и его впервые получает Россия. Народная жизнь, где стихия права не имеет надлежащего развития, не способна ни к какому благоустройству и находится в состоянии варварства и бессилия; все, чем только дорожит человеческое общество, предполагает прежде всего идею законности и обеспечивается прежде всего ее развитием и осуществлением в жизни. Законность же и право становятся действительностью, где суд есть сила независимая и самостоятельная. Только с точки зрения нового судебного преобразования раскрывается широкая перспектива нашей политической будущности. С этим преобразованием входит в нашу жизнь совершенно новое начало, которое положит явственную грань между прошедшим и грядущим, которое не замедлит отозваться во всем… Действие его не ограничится только сферой собственно судебных установлений: как тонкая стихия, она разольется повсюду и всему даст новое значение, новую силу. Суд, отправляемый публично и при участии присяжных, будет живою общественною силою. Суд независимый и самостоятельный, не подлежащий административному контролю, возвысит и облагородит общественную среду, ибо через него этот характер независимости сообщится и всем проявлениям общественной жизни. Только благодаря этому нововведению, то, что называется законною свободою и обеспечением права, будет уже не словами, а делом… Вот какому великому делу полагается теперь основание, вот до чего суждено было дожить нам, вот что представляется живущему ныне поколению[57] утвердить и ввести в силу».
Выполнило ли современное открытие нового суда поколение это свое благородное назначение и, если не выполнило, то какие были к тому препятствия? Лучший ответ[58] на этот вопрос находим в статьях той же газеты, наглядно указывающих на неблагоприятные условия, среди которых пришлось действовать новым судебным учреждениям. «Новый вступающий в жизнь порядок, – заявляла газета М. Н. Каткова, – встречается со старыми понятиями и навыками, и весьма естественно возникает опасение, что он будет понимаем неправильно. Новые порядки должны сталкиваться со старыми, которые существуют издавна и господствовали до сих пор исключительно. До сих пор бюрократическая администрация была у нас все во всем. Прежние судебные учреждения были только придатком к администрации. Теперь является новое начало, которое должно оказать действие повсюду и видоизменить весь строй нашего гражданского быта. Будут делаемы разного рода покушения[59], попытки, – меланхолически замечала газета, – подорвать силу нового порядка. Так везде (?) и всегда (?) бывает»[60].
Когда это опасение стало оправдываться, и уже летом 1866 г. стали обнаруживаться «покушения подорвать силу» новых судебных порядков (ограничить гласность и независимость суда), «Московские Ведомости» ответили целым рядом замечательных по искренности и убедительности статей[61], направленных против врагов судебной реформы, «принимающих личину консерватизма». «Все, что есть живого, мыслящего, разумеющего, – писал Катков, – не может не быть глубоко затронуто судьбою возникающего на Руси нового порядка. Не было ли бы грустно, если бы отмена крепостного права ограничилась только его формою и оставила его сущность? Но было бы не менее грустно, если новый порядок был только формою без сущности. Вот почему оскорбителен всякий намек, клонящийся к тому, чтобы затемнить сущность нового порядка вещей, чтобы из него вынуть его душу и оставить шелуху, которая давала бы сильнее чувствовать тщету начинания. Действительно ли наше судебное преобразование должно вывести на новые пути, дабы Россия могла держаться достойным образом среди других наций, чтобы гений ее народа мог обнаружить свою силу, оправдать наше прошедшее, оплодотворить наше настоящее? Правда ли, – патетически вопрошал Катков, употребляя любимую Герценовскую фигуру, – что это всеоживляющее, всевозбуждающее начало публичности, дающее всему свет и призывающее всех к сознательному участию в интересах своего отечества, – начало, без которого ничто не может правильно и плодотворно развиваться, ничто не может уберечься от порчи и гниения, ничто не может быть обеспечено от обманов и злоупотреблений, правда ли, что это начало вошло в нашу жизнь, или это только мерцание, лишенное сущности, призрак, готовый исчезнуть? Правда ли, что в настоящее время положены основы независимой судебной власти; правда ли, что мы имеем судебные учреждения, которыми обеспечивается закон и право, и весь народ привлекается к действительному участию в правосудии? Есть ли это действительность или это только фантом? Для вида ли только судебная власть признана независимою и самостоятельною, и она поставлена так, что для нее обязательны только закон и правда?»
После известного рескрипта на имя председателя Комитета министров князя П. П. Гагарина, последовавшего 13 мая 1866 г.[62], и издания Положения Комитета 22 июня 1866 г. о пространстве и пределах губернаторской власти мин. юстиции Замятнин вынужден был разослать согласно Положению циркуляр[63], в котором он разъяснил, что чины судебного ведомства «в случае вызова их или приглашения обязаны непременно подчиниться законным требованиям его и оказывать ему должное уважение, на которое он, как представитель высшей в губернии власти, имеет неотъемлемое право».
«Московские Ведомости» с нескрываемым неудовольствием отнеслись к тенденции и цели этого циркуляра. Свое неудовольствие сорвал Катков прежде всего на газете «Судебный Вестник», в котором циркуляр был назван предписанием. Сославшись на то, что судебные места не находятся в прямом подчинении Министерству юстиции, Катков указывал, что оно не может сноситься с ними предписаниями, и потому это неправильное название он относил к недосмотру редакции «Судебного Вестника». Обращаясь к разбору циркуляра по существу, московский публицист писал: «Тщательно справляясь с Судебными Уставами, единственным законодательством, которое, вызвав к жизни новые суды, служит нормой отношений последних ко всем бывшим до него государственным учреждениям, мы не находим ни малейшего, хотя бы самого отдаленного указания на то, в каких случаях мог бы представиться губернатору повод вызвать или пригласить к себе лиц, принадлежащих к судебному ведомству. Соображаясь с Судебными Уставами, мы, например, никак не можем вообразить себе такой случай, чтобы губернатору представилась надобность в видах ли интересов общего управления, с одной стороны, или интересов правосудия, с другой – вызвать к себе председателя мирового съезда или окружного суда, находящихся в уездах, и чтобы тот или другой все в тех же интересах должны были оставить свои текущие занятия, ехать, быть может, за сотни верст, чтобы явиться по зову губернатора. Повторяем, Судебные Уставы 20 ноября не содержат в себе ни одного указания на возможность какого-либо соприкосновения судебных мест и власти губернатора. Это до такой степени верно, что, сколько нам известно, во всех уставах, не исключая и позднейших прибавлений к ним, слово губернатор только упоминается при составлении списка присяжных. А между тем нельзя сказать, что Судебные Уставы оставили сколько-нибудь неясным вопрос о порядке подчиненности судебных мест (ст. 249 учр. суд. уст.). Надобно полагать, что права, предоставленные губернаторам по отношению к лицам судебного ведомства, как сказано в самом Положении Комитета министров, «совершенно независящим» в своей служебной деятельности от их влияния, нисколько не касаются отправления правосудия, равно как то уважение, к которому при всей независимости своей обязываются лица судебного ведомства по отношению к губернаторам, не может состоять в исполнении каких-либо распоряжений или внушений в делах правосудия. Не относясь к судебным должностям, Положение, о котором идет речь, поэтому может быть принимаемо только в самом общем смысле. Так, в высокоторжественные дни служащие лица всех ведомств, хотя бы и совершенно не зависящие от губернатора, являются к нему с поздравлением; так же точно предполагается случай, когда губернатору может представиться надобность объясниться с председателем палаты или окружного суда по какому-нибудь делу, не имеющему прямого отношения к их служебным по суду обязанностям (ибо дела судебные строго ограждены от всякого вмешательства администрации), и в таком предположении губернатору предоставлено право приглашения к себе точно так же, как иногда приглашает он к себе частных и ни на какой службе не состоящих лиц. При этом всякий, конечно, пожелает, чтобы с успехами благоустройства не вырастала, а уменьшалась возможность подобных случаев»[64].
Через несколько времени пришлось снова выступить талантливому защитнику основ судебной реформы по поводу нападок на мировые учреждения тогдашних «революционных консерваторов», подвизавшихся в реакционной «Вести», и Катков заключил свою честную отповедь такими словами: «Одно мы считаем себя вправе сказать, – заявляет он, – уже и теперь великая (судебная) реформа вполне оправдала[65] те горячие надежды, какие на нее возлагались, и лучшее пожелание русского патриота состоит в том, чтобы из этого здания не было вынимаемо камней, чтобы изменения Судебных Уставов допускались лишь в случае очевидной необходимости и притом согласовались с общим духом новой системы»[66].
Трудно было рельефнее, красноречивее и искреннее выразить сущность нового суда и протест против тех враждебных условий, которые окружали его деятельность!.. За эту горячую поддержку, оказанную Судебным Уставам в трудное время их существования М. Н. Катковым, быть может, многое ему простится из последующего возмутительного поведения его относительно нового суда…
Об условиях деятельности нового суда трактовала и газета «Голос». В статье, появившейся 17 апреля 1866 г., «Голос», назвав судебную реформу «изведением русского народа из юридической неволи», писал между прочим: «Может быть, даже вероятно, что при этом исходе, подобно ветхозаветным евреям, и мы, отученные горьким подневольным прошлым от честной и разумной гражданской жизни, со всеми подобающими ей правами, не вдруг, не тотчас вступим в обетованную землю; быть может, даже вероятно, придется пространствовать по бесплодной пустыне ошибок и промахов и опять поклоняться золотому тельцу, которого так долго обожали. Но что за дело? Все-таки да будет благословен Моисей, изведший нас из неволи, пишущий и дающий нам скрижали нового завета для новой жизни»[67].
Все эти более или менее мрачные предсказания сбылись: блуждание по «пустыне промахов» началось скоро и продолжалось долго и длится вплоть до наших дней. По иронии судьбы впереди всех в операции «вынимания камней из здания нового суда» оказался впоследствии в своих нападках на новый суд один из вышеупомянутых публицистов – М. Н. Катков, когда-то самый горячий поборник судебной реформы.
Не дорожим
Мы шагом к прочному прогрессу.
День, два все полны грез и веры.
А завтра с радостью глядят,
Как рановременные меры
Теряют должные размеры
И с треском пятятся назад!!!…
Грустно вспомнить об этом тяжелом для нового суда времени. Новый гласный суд, суд равный, правый и милостивый, очутился в 80-х гг. под немилостивым Шемякиным судом его недавних друзей в положении травимого красного зверя. В защиту принципов нового суда при двусмысленном молчании Министерства юстиции едва раздавались отдельные голоса. В числе их нельзя не помянуть с признательностью авторитетный, честный голос И. С. Аксакова: «С легкой или вернее тяжелой руки Московских Ведомостей', — писал он в 1884 г., – прочие газеты и газетки с публикой вкупе хором ревут на новый суд: „ату его! ату!“ глумятся, ругаются, мечут грязь со свистом и хохотом во весь судебный персонал, во весь судебный институт с его прошедшим и настоящим, как будто кто им задал задачу не только поколебать его авторитет, но и омерзить его, сделать ненавистным в народных понятиях… Кричат и голосят о некоторых исключительных случаях, – с грустью указывал Аксаков, – и молчат о десятках тысяч решений правых, молчат о той обильной деятельности правосудия, которая водворилась теперь на нашей так еще недавно правосудной земле! Забывают и о множестве честных, скромных, истинно доблестных тружеников».
Указав в заключение на десятки тысяч дел, ежегодно решаемых присяжными, Аксаков заканчивает свою горячую и честную отповедь недобросовестным врагам нового суда следующими словами, которые особенно кстати вспомнить ныне: «И из всех этих десятков тысяч приговоров – ни один не запятнан корыстью. Сладкая, благодатная уверенность! Россия ли заплатит за нее неблагодарностью? Или же соскучились мы по доброму старому времени? Будьте благонадежны: станете, как теперь, травить суд, пошатнете его прочность, его независимость – все вернется: и взятки, и мошенничество, и кривосудье!!!»[68].
Об этом пророческом предостережении честного публициста, близко знакомого с нашими дореформенными порядками, не бесполезно вспомнить и современным ослепленным врагам нового суда.
56
См. «Моск. Вед.», 1866. № 198.
57
См. «Моск. Вед.», 1866. № 86. До какой неразборчивости в средствах борьбы против суда доходили «родовитые представители этого поколения», «революционные консерваторы», как их назвал Самарин, можно судить по следующему образцу, сообщаемому Никитенко: в английском клубе (в Петербурге) члены сделали складчину для выкупа долгов грязного памфлетиста И.Арс. за то, что «он взялся ругать новые суды», что он и исполнил тотчас после выхода из долговой тюрьмы к удовольствию своих высокопоставленных покровителей (Никитенко, III, 161). Самые опасные враги наши, замечает Никитенко, не поляки, не нигилисты, а те государственные люди, которые делают нигилистов: это закрыватели земских учреждений и подкапыватели судов. Ничего нет невозможного, если наше земство и суды наши будут подорваны этими врагами. – Лучше не давать ничего, чем, давши, брать назад. У крепкого здорового тела выросла на носу бородавка. Вместо того, чтобы употребить местное средство или даже оставить ее так, потому что она в сущности ничему не мешала, невежда доктор отрезает нос. В будущности России я не отчаиваюсь, потому что народ есть все-таки сила, но я отчаиваюсь в том, чтобы в России установилась когда-нибудь хорошая администрация («Дневник», III, 156).
58
Еще в 1884 г. акад. Никитенко писал: «Новые законы (Судебные Уставы) сначала наделают много суматохи. Их не сумеют ни понять, ни оценить, ни применить. Но не должно от этого приходить в отчаяние, как не должно приводить в отчаяние от летнего дождя, который смачивает на вас платье, но приготовляет обильную жатву». («Русск. Стар.», 1891. № 5. С.420).
Чрезвычайно неблагоприятным условием для правильного действия новых судов было то обстоятельство, что вдохновителем внутренней политики в 60-х гг. был П. А. Валуев, человек непомерного властолюбия, самонадеянности и нетерпимости. Выдвинувшийся в 1855 г. благодаря своим либеральным взглядам (см. гл. V), он стал в 1862 г. орудием «мягкостелющей» реакции, «мягкие формы» коей особенно возмущали Салтыкова («Ах! как бы я тебя жамкнул, кабы только умел». Соч., II, 12). В «Думе Русского» осуждавший николаевские времена за «нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания», П. А. Валуев, став министром, сделался нетерпимым до крайности, с особенною, чисто болезненною, по свидетельству Никитенко, раздражительностью начал относиться к первым самостоятельным шагам печати, освобожденной от предварительной цензуры (см. гл. VII), и должен был неминуемо столкнуться с независимым новым судом. Если даже старые суды, вполне зависимые от администрации, не всегда решались ломать законы в угоду прихотливым указаниям Валуева, то новые суды должны были оказаться еще менее способными угодить ему. Первый же литературный процесс в С.-Петербургском окружном суде в августе 1866 г. вывел Валуева из себя. Судились временный редактор «Современника» АН. Пыпин и один из главных его сотрудников (впоследствии управляющий Государственным банком) Ю. Г. Жуковский за «Вопрос молодого поколения», в котором П. А. Валуев видел оскорбление дворянства. Окружный суд (конечно, без присяжных) оправдал подсудимых, от чего П. А. Валуев пришел в страшную ярость, хотя дело подлежало еще обжалованию во вторую инстанцию. Раньше, чем состоялось решение второй инстанции (она подсудимых обвинила и назначила им легкий арест, чему они крайне обрадовались, так как опасались административной высылки в случае вторичного оправдания), вошел к государю с докладом о немедленной смене, вопреки ст. 243 Учр. суд. уст., без следствия и суда председателя окружного суда Г. Н. Мотовилова. Удаление Мотовилова совсем было уже дело решенное, не состоялось только благодаря современному вмешательству министра юстиции Д. Н. Замятнина, сославшегося на неудобство смены судьи без следствия и суда после только что
провозглашенной несменяемости, тем более, что Мотовилов не только не участвовал в заседании по делу «Современника», но и уехал из Петербурга, пользуясь вакантным временем. Но Валуев не унялся. Он внес в Государственный совет, даже не снесясь вопреки ст. 201, т. I Общ. Наказ, с министром юстиции, проект новых правил о суде по делам печати, в коем он, между прочим, требовал безусловного подчинения прокуратуры по делам печати указаниям цензурного ведомства. Это домогательство было отвергнуто Государственным советом, но Валуев добился издания первой новеллы к Судебным Уставам – закона
12 декабря 1866 г., коим для дел о печати первою инстанциею назначалась судебная палата, и число инстанций с трех сводилось к двум. М. Н. Катков выразил сильный протест против такого стеснения прав печати, ссылаясь на неудобство уничтожения для нее целой инстанции.
59
Сравнивая форму деятельности суда и администрации, та же газета писала: «Покуда суд будет действовать размерно на одной хотя и большой своей дороге, не дерзая отступать от определений закона, у администрации будут в распоряжении тысячи проселочных путей, на которых она может действовать быстро и свободно распоряжаться по своему усмотрению». (Моск. Вед., 1865. № 92).
60
«Моск. Вед.», 1866. № 146 и 198.
61
Акад. Никитенко, отмечая с сочувствием борьбу М. Н. Каткова с Валуевым и вообще с администрациею из-за нового суда, приводит массу фактов в подтверждение крайне враждебного отношения администрации к новому суду.
Главная задача гр. П. А. Шувалова (шефа жандармов) и П. А. Валуева (мин. внутр. дел), – пишет он еще осенью 1866 г., – вдвоем управлять Россиею полицейским образом, один посредством общей, другой посредством тайной полиции, и подорвать суды, т. е. взять их под опеку администрации, – Он же передает, что Валуев отстоял «Весть», где была напечатана по его заказу (sic) статья, обвиняющая суды в революционных стремлениях (см. «Дневник», III, 115–119). Особенное ожесточение против суда вызвало оправдание чиновника Протопопова, обвинявшегося в нанесении удара начальнику своему гр. Кошкелю (см. «Итоги прошлого», К. Ф.Хартулари. СПб., 1891. С.3 и след.) и признанного душевнобольным. Несмотря на это, Валуев и др. делали большие усилия, чтобы добиться кассации вердикта. По поводу оправдания Протопопова «Весть», пишет Никитенко, прямо обвиняет суд в революционных стремлениях (статья была внушена П. А. Валуевым. С. 119 «Дневника»). Неудивительно, – продолжает Никитенко, – если с судами последует то же, что с земскими учреждениями (т. е. парализация. С. 159). Вот будет скандал, если Сенат отменит решение суда и велит наказать бедного Протопопова, признанного сумасшедшим, как этого желают Валуев и некоторые другие чиновники «для примера другим». Кому? сумасшедшим? – спрашивает Никитенко (С. 146–147). После дела Протопопова, сообщает Никитенко, отняли портфель у мин. юст. Замятина (С. 148), а когда Сенат отверг протест прокурора по делу, Никитенко пишет: «Событие замечательное и отрадное». (Т. III. «Дневник». С. 153). – П. А. Валуев враждовал с новым судом также за литературные процессы, в которых судьи не могли без нарушения закона усвоить «политику» Валуева, основанную на личных интересах (см. Никитенко, III, 48, о мотивах первого предостережен. «С.-Петерб. Ведом.»), личной вражде и стремлении de facto отнять у печати дарованные законом льготы (см. там же, 58, 75,128–129). Даже старые суды отвергали раздутые обвинения, предъявляемые цензурою, например, по делу Краевского и др. (С. 77) и тем более независимости показывали новые суды, например, по делу Пыпина и Жуковского (С. 116). Вслед за этим делом, как сказано, Валуев добился изменения подсудности по делам печати.
62
Рескрипт, – пишет Никитенко, – произвел неприятное впечатление. Полагают, что он еще больше уронит наш кредит за границею, а внутри он может подать повод к злоупотреблениям власти. Я думаю, главное его неудобство– неловкое изложение, если уж сочтено нужным излагать то, что в нем содержится. («Дневник», III, 102). В рескрипте говорилось, между прочим, что нужно иметь в виду для борьбы с социальными учениями «содействие тех других, здравых охранительных и добронадежных сил, которыми Россия обильна». Затем упоминалось, чтобы начальствующие требовали от подчиненных «того прямого, точного и неуклонного исполнения обязанностей, без которого невозможен стройный ход управления». («Север. Почта», 1866. № 62). Слова эти были поняты реакционною «Вестью» (№ 38) так, что не должны оставаться на службе лица, не разделяющие ее взгляда на дворянство. На ошибочность такого понимания возражали «Отечест. Записки» (июнь 1866. С. 11–116).
63
Мин. внутр. дел П. А. Валуев также разослал циркуляр губернаторам. – Как своеобразно поняли иные губернаторы свое новое положение, можно судить по следующему факту: калужский губернатор представил высшему начальству о необходимости выслать из Калуги не то председателя, не то члена Гражданской Палаты за его неблагонадежность, в случае могущего последовать в Калужской губернии возмущения» (Никитенко, II, 131).
64
«Московск. Ведом.», 1866. № 240.
65
В 1867 г. Никитенко сам исполнял обязанности присяжного заседателя и вынес из суда самое благоприятное впечатление. «Все велось, – заносит он в свой “Дневник”, —с большим достоинством, добросовестно и с строгим соблюдением всех законных требований. Подсудимые видели, что ничего не было упущено для облегчения их судьбы, и если они подверглись каре, то эту кару наложил на них закон, а не произвол судей. Говорят, – пишет он далее, – министр юстиции (гр. Пален, единомышленник Валуева) объяснялся с председ. окружного суда и заметил, что присяжные не оправдали (? см. ниже § 3 главы XII Отчет мин. юст. Замятина) ожиданий правительства, которое надеялось найти в них консервативный элемент, и находит противное (?). – Пред уходом из суда Никитенко беседовал с прокурором. Он с глубоким прискорбием жаловался на то, что администрация всячески старается вредить судам, и если встретится какая-нибудь ошибка с их стороны, администрация с ума сходит от радости. Коснувшись нынешних сессий, прокурор говорил, что он был удивлен здравомыслием и беспристрастием присяжных из крестьян (III, 156–157).
66
«Моск. Вед.», 1866. № 263.
67
«Голос», 1866. № 105.
68
Полное собрание сочинений Аксакова. Т. VI. С. 664.