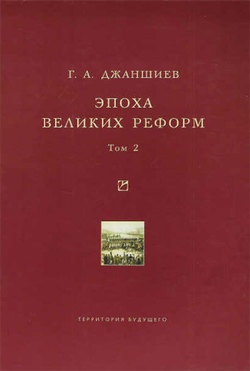Читать книгу Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 2 - Григорий Аветович Джаншиев - Страница 3
VI
Судебная реформа
Глава восьмая
Судебные уставы императора Александра II[1]
(Справка к 30-летию)
III
ОглавлениеПубличное судопроизводство, гласность, присяжные, адвокатура, освобождение суда от администрации… Если бы в прежние времена вздумал бы кто только помечтать о подобных вещах, и мечта его как-нибудь вылетела бы из его уст-тот был бы сочтен за сумасшедшего или за государственного преступника.
А.В. Никитенко (1862 г.).
В 1861–1862 годах судебная реформа делает новую и последнюю эволюцию по пути развития «непреложных общих начал», вызванную объявлением «воли». Великий акт освобождения крестьян оказал частью прямое, частью косвенное, но в общем громадное воздействие на дальнейшее движение и ускорение этого преобразования. Воздействие это заключало в себе весьма определенное содержание и мысль, а не имело такого утрированного не то метафизического, не то мистического значения, по смыслу которого, как уверяют «самобытники», Положение 19 февраля имело и должно иметь влияние на все будущие времена и на все наши преобразования[11].
Вот в чем выразилось прямое влияние 19 февраля. Для многомиллионного населения «вчерашних рабов», впервые возвративших себе, благодаря освободительному акту 19 февраля, гражданские права, необходимо было взамен уничтоженного помещичьего суда, если только возможно назвать судом этот варварский произвол, учредить государственный суд. Косвенное же воздействие «дела ig февраля» было то прогрессивное воодушевление и гуманное настроение, которое вызвало благополучное окончание этого громадного предприятия и которое влило новые силы в передовых деятелей того времени. «Если бы в 1861 году не состоялось по поле Самодержца Всероссийского освобождение крестьян с землею, – пишет в своих автобиографических заметках важнейший авторитет по истории судебной реформы, С. И. Зарудный, – то ни в каком случае не были бы утверждены 20 ноября 1864 года Судебные Уставы. При крепостном праве, – продолжает он, – в сущности не было надобности в справедливом суде. Настоящими судьями были тогда только помещики; над ними господствовал высший своевольный суд. Помещики не могли ему не покоряться; но в их руках сосредоточилась власть над большинством народонаселения. Крестьяне расправлялись с помещиками судом Линча. После 19 февраля и высшие наши сановники сознали, что появилась безотлагательная необходимость в суде скором и справедливом»[12]. Наконец, огромное идейное значение отмены крепостного права заключалось в том, что она, будучи вызвана протестом во имя права и человеческого достоинства, давала удовлетворение требованиям свободной личности. Пока крепостное право тяготело бы хоть над одним человеком, не могло быть речи о праве русского гражданина. Только с 61 года установлены были первые элементы правового порядка, и потому вслед за этим стал на ближайшую очередь вопрос о разумной, рациональной организации первой опоры и охраны правового порядка—независимого суда.
Отметив общий характер влияния освобождения крестьян, перейдем теперь к подробностям.
События развивались в таком порядке. Осенью 1861 года вернулся в Петербург из Крыма император Александр II, бодрый, веселый, довольный, удовлетворенный, счастливый, – счастливый тем особым и великим счастьем, которое дает лицам, располагающим судьбами народов сознание исполненного долга и твердого выполнения завещанной историей, трудной, но благородной миссии. Гений свободы и гуманности, несмотря на промахи управлявшего в отсутствие Государя Верховного Совета, несмотря на «зигзаги» русского прогресса[13], витал в то время над Россией. Политический барометр, невзирая на беспрестанные колебания, частенько от «переменно» подходил к «ясно». Благородное воодушевление, чувство внезапно, но – увы! – не надолго, вспыхнувшего «конфуза», жгучего стыда пред историей, сознание нравственного долга «кающегося дворянина» пред «меньшею братиею» создавали в обществе неудержимое стремление обновить старый крепостной строй жизни, державшийся только на насилии, произволе и беззаконии. Чего-чего только нельзя предпринять и быстро и удачно выполнить при таком бодром и гуманном настроении, которое только очерствелому, злому рабовладельческому сердцу современных крепостников может казаться временем белой «горячки»[14]?..
Тотчас по возвращении в Петербург, Государь пожелал узнать, в каком положении находится дело о судебном преобразовании. Государственный секретарь В. П. Бутков во всеподданнейшей записке указывал на встреченные государственною канцеляриею затруднения при докладе составленных гр. Блудовым в разное время и не согласованных между собою проектов Уставов гражд. и угол, судопроизводства и судоустройства и высказал, что детальному рассмотрению означенных проектов должно предшествовать «определение и утверждение основных начал» предполагаемого судопроизводства. Доклад В. П. Буткова был высочайше одобрен, и в исполнение состоявшегося на основании оного высочайшего повеления, был изготовлен 19 октября 1861 г. В. П. Бутковым по соглашению с председавшим в Государственном совете гр. Д. Н. Блудовым новый и более подробный доклад о порядке, рассмотрения в Государственном совете проектов судебного преобразования. 23 октября 1861 г. уже состоялось Высочайшее утверждение этого доклада, вдвинувшее дело судебного преобразования в третий и последний фазис его развития.
Вместе с тем признано было неудобным поручить в этой новой стадии дела руководство им старому, даже очень старому, кормчему его, гр. Глудову (ему минуло в 1862 году 77 лет). Новое вино опасно было вливать в старые мехи. По всему видно, что это чувствовалось всеми, не исключая и самого графа Блудова, которого с этих пор почтительно, но явственно удаляют с поста, более несоответствовавшего его положению и силам. Эту цель и преследовал, между прочим, означенный доклад, принадлежавший перу вышеупомянутого С. И. Зарудного, состоявшего в 1856 году статс-секретарем департамента законов Государственного совета.
Сущность названного доклада сводилась к тому, что поручалось государственной канцелярии, сообща с «прикомандированными к ней юристами», извлечь из блудовских проектов, составленных при II отделении Его Императорского Величества канцелярии, «главные основные начала». С официальной точки зрения перемена была небольшая. В работах государственной канцелярии должны были принимать участие также и чиновники того же II отделения и Министерства юстиции, и даже номинальное «высшее наблюдение» оставалось за гр. Блудовым. Но в действительности дело судебной реформы явственно выступало на новый, более рациональный путь. Инициатива и главное руководство им заметно переходило к В. П. Буткову (протеже гр. А. Ф. Орлова, недавно еще ярому крепостнику, но с 1861 г. со всеми своими armes et bagages перешедшему в либеральный лагерь) и его главному сотруднику С. И. Зарудному, при деятельном участии новых, свежих сил «прикомандированных юристов»: Н. А. Буцковского, Н. И. Стояновского, Д. А. Ровинского, К. П. Победоносцева, А. М. Плавского, и чинов государственной канцелярии: П. Н. Даневского, С. П. Шубина и А. П. Вилинбахова. Одно уже привлечение к делу «юристов» как таковых, т. е. как представителей «права», а не просто чиновников «законоведов»[15], свидетельствовало о том, что в официальных сферах «новое начало», юридическая наука, «право», сделало довольно серьезное завоевание на счет и в ущерб традиционной табели о рангах и «законоведения». Оставалось закрепить это ценное завоевание и обеспечить «прикомандированным юристам», воодушевленным гуманными и либеральными стремлениями, возможность широкого общения с юридическою наукою. Этот шаг не заставил себя долго ждать.
Уже к концу 1861 года «юристы» живо разобрали Блудовские проекты и нашли в них то, что и следовало ожидать. Извлеченные «основные начала» показали, что проекты не согласованы между собою и что необходим пересмотр и полная переработка их на основаниях научных или на основании тех «общих непреложных начал», о которых писал гр. Блудов еще в 1857 г., но провести которые пришлось другим.
С начала 1862 года гр. Блудова сменяет, по должности председательствующего в Государственном совете, кн. П. П. Гагарин (тоже крепостник и автор известного «нищенского» надела, также плывший в это время по фарватеру либерализма), и с этих пор гр. Блудов окончательно сходит со сцены. Но к чести его нужно заметить, он не счел уместным держать оппозицию quand тёте тем «новшествам», которые проникли после него в судебную реформу, и, считая их появление естественным развитием начатого им дела, принял их просто и без протеста.
Первым делом кн. Гагарина было исходатайствовать «юристам» официальное разрешение на полную свободу действий и возможность свободного пользования вышеупомянутыми «непреложными началами», т. е. указаниями науки и практики цивилизованных народов. Разрешение это было дано знаменательным Высочайшим повелением от января (число, к сожалению, неизвестно) 1862 года, где впервые вещи названы их собственными именами. Этот первостепенный для истории русского процесса и прогресса документ гласил: «Изложить в общих чертах соображения Государственной Канцелярии и прикомандированных к ней юристов о тех главных началах, несомненное достоинство коих признано в настоящее время наукою и опытом европейских государств и по коим должны быть преобразованы судебные части в России».
Рубикон был перейден! Китайская стена, отделявшая в течение сорока пяти лет наши законодательные сферы от непосредственного воздействия европейской науки и современного прогресса, пала. Начала европейского публичного права и науки, проникавшие к нам дотоле контрабандным путем (слово «прогресс» было формально запрещено еще в 1858 г.) или в виде замаскированных анонимов (как, например, «общие непреложные» начала у гр. Блудова), получили, наконец, открытый доступ и к нашей законодательной практике. Благодаря этому крупному событию, а также господствовавшему в то время в русском обществе либеральному настроению, сделан был тот последний, логический шаг, без которого предпринятое гр. Блудовым 20 лет перед тем дело судебной реформы осталось бы на полпути и недоделанным.
«Юристы» 1862 г. возымели благородную решимость сделать этот окончательный шаг, который иным казался чересчур рискованным. Веря в здравый смысл русского народа, крепость русской культуры и воспитательную силу хороших учреждений, либеральные юристы решились, например, предложить суд присяжных, который, так сказать, навертывался на языке у гр. Блудова, но который он не имел решимости открыто выставить. В составленных юристами «главных началах» мы видим не скачки и не бред буйной теоретической мысли, как иные думают, а только логическое развитие институтов, раньше намеченных. Это лучше всего можно показать на примере самого важного нововведения, на суде присяжных, предложенном Заруднинскою «могучею кучкою».
Враги судебной реформы привыкли твердить, что суд присяжных был введен у нас из слепого подражания иностранным образцам и по мотивам чисто политическим. Мнение это лишено всякого основания. Что касается подражательности, то вот как смотрели «юристы» 60-х годов на вопрос о заимствовании: «Наш нормальный путь, – говорят они, – не подражание, а разумное применение общих начал выработанных юридическою наукою». Что же касается политической стороны этого института, то ее тщательно устраняют они из нашего суда присяжных, настаивая на мотивах исключительно юридических[16].
В чем же они состояли? Вот путь того рассуждения, который побудил «юристов» государственной канцелярии сделать из посылок гр. Блудова логические выводы. Гр. Блудов, признавая теорию «законных доказательств» несостоятельною, не решился однако вполне отказаться от нее и остановился на компромиссе. «Юристы», основываясь на трудах германских юристов Кестлина, Генна, Пухты, Гагена, Буштеля, Бринкмана, Молинара, Миттермайера и др., пришли к заключению, что тут нет средины, tertium non datur, что или должна быть строгая легальная регламентация силы доказательств, обязательная для судей, или им должен быть предоставлен путь оценки доказательств по внутреннему убеждению. Отвергнув теорию «законных доказательств» на основании указаний науки и нашей собственной практики (эта сторона дела особенно тщательно разработана в записке Д. А.Ровинского (см. ниже), прекрасно знакомого с судебною практикою по должности московского губернского прокурора) и признав необходимость решения вопроса о виновности по убеждению судей, юристы переходят к вопросу о судоустройстве. Они указывают на то, что наши старые судебные заседатели не приносили никакой пользы и были простыми ширмами или пешками в руках секретарей, так как должны были решать не только вопрос о виновности на основании теории доказательств, но и применять законы о наказаниях. Вследствие этого «юристы» признают нужным предоставить заседателям решение только вопроса о виновности, который они, в качестве людей знакомых с действительною жизнью, решат лучше коренных судей, людей кабинетных. Вопрос же о наказании предоставляется решению судей юристов. Отсюда переход чрез наших «судебных заседателей» к европейским присяжным заседателям был так естествен, что он подсказывался сам собою. Придумывать непременно что-то «свое», отличное от хорошо известного и испробованного европейского суда присяжных – значило бы впадать в оригинальничанье, значило бы стучаться в открытую дверь. Деятели 60-х годов были слишком серьезные люди, чтобы носиться с такою «пустою» претензиею, к которой, по замечанию Вл. С. Соловьева, сводится наша внеевропейская и противоевропейская самобытность[17].
Главный аргумент против присяжных была неразвитость «вчерашнего раба», неразвитость народа, «которого, по выражению Я. И. Ростовцева, до освобождения крестьян не существовало»[18]. Вот как возражают на это «Соображения» юристов Государственной Канцелярии: «Конечно, развитость народа имеет немалое влияние на достоинство его учреждений, но не подлежит также сомнению, что хорошие учреждения развивают и совершенствуют общество. В этом отношении правильный суд едва ли не желательнее всякого иного учреждения, ибо он распространяет в народе понятие о справедливости и законе, без чего не может быть ни благосостояния, ни порядка в обществе. Неразвитость нашего народа представляет основания для скорейшего введения суда присяжных, потому что такой именно народ и нуждается в особых ограждениях в суде, нуждается в судьях, которые бы вполне его понимали. Нигде, может быть, историческая жизнь народа не положила таких глубоких разграничений между различными слоями общества, как у нас, отчего между понятиями, обычаями и образом жизни наших постоянных судей, принадлежащих вообще к высшему сословию, и подсудимых из низших сословий замечаются чрезвычайно резкие различия[19].
Весьма подробно разобрали «юристы» Государственной Канцелярии и то возражение, что суд присяжных имеет политический характер. Суд присяжных, как одна из лучших гарантий правосудия вообще, конечно, имеет и крупное политическое значение. «При отсутствии правосудия, – говорит Лероа-Болье, – нет более просвещенной свободы, а при наличности правосудия, я полагаю, нет более деспотизма или по крайней мере тирании». С такой точки зрения носит политический характер не только суд присяжных, но и предположенные графом Блудовым усовершенствования правосудия, вроде сокращения инстанций, введения состязательного процесса, не говоря уже о введении гласности, которая, по определению Н.А. Буцковского, «служит самым надежным контролем для всякой общественной деятельности и единственно прочною уздою для удержания общественных деятелей в пределах законности». Но не в таком общем, а еще в особом специфическом смысле возражали и, смешно сказать, даже в наши дни возражают, – против суда присяжных, ссылаясь на то, что это учреждение якобы революционно-демократическое, несовместное с самодержавием. Против такого фальшивого освещения предмета выдвинули «юристы» длинный ряд соображений, заимствованных главным образом из истории русских судебных учреждений[20].
11
См. «Освобождение крестьян» Н. П. Семенова. С. 1–3, XII.
12
русская Старина, 1888. № 9.
13
См. Лероа-Болье. Un homme d’etat, 116, 87.
14
См. статью г. Григорова: «Кое-что о мировом суде». Моск. Вед., 1889. № 35.
15
Наш маститый юрист П. Г. Редкин в вышедшей незадолго до его смерти книге своей отмечал, что до Устава 1863 г. профессорам строжайше предписано было заменить слово «правоведение» – «законоведением». См. выше главу IV.
16
См. т. IX Дела о преобраз. суд. части. Записка Н.А. Буцковского. С. 7; С. 5 Записки Зарудного.
17
Национ. вопрос в России. С. VI.
– Наглядным предостережением против такого оригинальничанья quand тёше служит опыт с печальной памятью III отделением. Это самобытное учреждение должно было, на посрамление Европы, доказать, что и помимо гласности и вообще рациональной судебной организации возможно водворение законности и правды. Назначением этого нового не то светского ордена, не то полицейского масонства, было, как разъясняла инструкция учредителя его, гр. Бенкендорфа, «обращать внимание на беспорядки во всех частях управления; наблюдать, чтобы спокойствие и права граждан не были нарушены людьми властными; внимать гласу страждущего человечества и защищать беззащитного и безгласного гражданина». Таким образом эти новые Гарун-аль-Рашиды, тайно, но деятельно наблюдая за всеми, должны были при помощи сердцеведения и смотрения исполнять функции, которые в других странах, и то не всегда хорошо, выполняют суд, адвокатура, печать и общественное мнение. Хорошо известно, во что превратилось это учреждение, которому ставилась столь высокая и совершенно ему непосильная задача. Приветствуя упразднение в 1880 г. III отделения, Катков между прочим писал: «Принадлежа к той системе, которая отрицала всякую свободу жизни и уже потеряла свою силу, учреждение это вносило собою только смуту и ложь в жизнь при ее изменившихся условиях». («Моск. Вед.», 1880. № 222). Об оставленной незавидной памяти III отделения можно судить уже по тому, что сочтено было невозможным IV отделение переименовать в III.
18
См. письмо Ростовцева к Александру II; С. 49 «Освобождения крестьян» Семенова.
19
См. т. XVII «Дела о пр. суд. части». С. 39.
20
См. записку Буцковского. С. 44–53; записку Зарудного. С. 5–24. Т. IX «Дела о преобраз. суд. части».
– Подобными же чисто юридико-бытовыми и рационально-научными соображениями были мотивированы: несменяемость судей, независимость адвокатуры, упразднение сословности в судах и установление: равенства пред законом, устности, состязательности, широкой гласности и других основ судебной реформы.