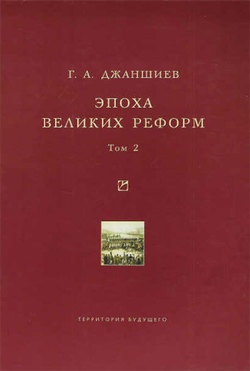Читать книгу Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 2 - Григорий Аветович Джаншиев - Страница 6
VI
Судебная реформа
Глава десятая
Открытие «Нового суда» в Петербурге
(Справка к 30-летию)
I
ОглавлениеС утверждением образцовых[35] Судебных Уставов самая главная задача судебной реформы была разрешена. Оставалось обсудить порядок их введения в действие. Несмотря на сравнительно второстепенное значение этой стадии дела, она заняла довольно много времени – без малого год, что особенно бросается в глаза, если принять во внимание, что сами Судебные Уставы составлены были почти в 21/2 года (январь 1862 – ноябрь 1864 гг.). При обсуждении вопроса о порядке введения судебной реформы пришлось считаться с практическими затруднениями и возражениями, под которыми, впрочем, лежало довольно важное теоретическое разномыслие.
Одно направление – представителем его был председатель Государственного совета кн. П. П. Гагарин – высказывалось за одновременное и повсеместное введение судебной реформы, но с постепенным увеличением состава судов; другой взгляд – представителем его был министр юстиции Д. Н. Замятнин – высказывался за введение реформы в виде опыта в одном или двух округах, но в полном объеме.
Император Александр II, заслушав оба мнения в Совете министров, повелел 12 января 1865 г. образовать для выработки окончательного плана введения судебной реформы комиссию под председательством того же В. П. Буткова, который стоял во главе комиссии, составлявшей проекты Судебных Уставов[36]. В состав этой второй Бутковской комиссии вошли знаменитые деятели судебной реформы С. И. Зарудный, Н. А. Буцковский, А. М. Плавский, а также юристы: П. А. Зубов, Я. Г. Есипович, М. Е. Ковалевский, О. И. Квист, Н. Г. Принтц, Г. К. Репинский и А. А. Книрим.
На деятельности комиссии отразилось действие обычного в нашей государственной и общественной жизни явления: после кратковременного лихорадочного возбуждения, поражающего иной раз громадным своим подъемом, наступает быстрое охлаждение, упадок энергии, если не преждевременное разочарование. Так было и в данном случае. Члены комиссии относились с полным сочувствием к либеральным основам Судебных Уставов, но по вопросу о времени и порядке введения их мнения разделились на две группы – радикальную и умеренную.
К последней принадлежало большинство комиссии, и оно отстаивало мнение министра юстиции Д. Н. Замятнина, который считал, ввиду новости дела, возможным лишь постепенное введение Уставов в виде опыта, начав с столичных судебных округов. Меньшинство же (в состав его входили С. И. Зарудный, Н. А. Буцковский, О. И. Квист) полагало необходимым единовременное введение новых судебных установлений на всей территории Европейской России с тем, чтобы персонал их пополнялся постепенно, по мере накопления дел в судебных округах.
Считая невозможным передавать все подробные соображения, приведенные обеими сторонами в пользу их плана, познакомим с некоторыми доводами меньшинства. Стремление к опыту, говорит оно, положительно вредно, как потому, что в настоящее время не опыт нужен, а введение Уставов в действие, так и потому, что опыт, устроенный на неверных началах, приводит к фальшивым выводам и пагубным результатам. Судебные Уставы – это цельная, живая органическая сила, которая может обнаружить свое значение и желаемое действие только в цельной, а не в разрозненной части России. При опыте в разрозненных местностях можно придти к отмене если не всего лучшего, что есть в Уставах, то многого. Если по финансовым соображениям нельзя повсеместно ввести Судебные Уставы, то, по мнению меньшинства, лучше бы вовсе отложить введение их.
На самом деле финансовые соображения, по-видимому, служили лишь благовидным флагом, под которым скрывалось скорее преждевременное охлаждение к судебной реформе под влиянием реакции, особенно усилившейся после событий 1863 г.[37] На это указывает прежде всего то обстоятельство, что при осуществлении плана меньшинства требовался расход гораздо меньший, нежели тот, который был предположен Государственным советом в 1862 г., при рассмотрении основных начал судебной реформы. В 1862 г. Совет находил, что на судебную реформу нужно ассигновать до g млн и рассуждал так: «никакая цифра не должна останавливать введения в действие судебного преобразования, безусловная важность и безотлагательная потребность которого не подлежит сомнению и давно уже признана правительством»[38], а в 1865 г. даже проектируемый трехмиллионный расход на открытие нового суда встречал возражение. Что в данном случае главную роль играл именно страх перед «радикализмом»[39] судебной реформы, «пред невозможностью справиться с учреждениями, заимствованными из иностранных законодательств», это видно также и из заключения министра финансов Рейтерна, который наряду с финансовыми затруднениями и чуть не с большею настойчивостью указывал на затруднительность приискания достаточного числа лиц даже для замещения судебных должностей в двух округах[40].
В виду этого, меньшинство комиссии сочло себя вынужденным еще раз коснуться тех возражений, которые приводились раньше, в 1862 г., против плана радикальной судебной реформы и устранены были тогда же. Против довода, что общество не подготовлено, приводилось следующее возражение: «Если законодательные предположения правильны, то они благо временны: трудно думать, чтобы люди где-нибудь и когда-нибудь были приготовлены к дурному и были не зрелы для хорошего. Разумный закон, рассуждает меньшинство, никогда не сделает зла. Может быть, по каким-либо обстоятельствам и даже по самому свойству закона нового он не будет исполняем согласно с истинным его смыслом, но гораздо вероятнее, что он тотчас же глубоко пустит свои корни (как известно, эта разумная вера вполне оправдалась, в особенности относительно суда присяжных) и составит могущественную опору спокойствия и благоденствия государства». Иные «патриоты» даже в наше время поднимают на смех этот «оптимистический и идеалистический» взгляд и с ирониею указывают на невозможность применения современного европейского строя к «дикарям» Дагестана[41]. Но «легкомысленные» либералы судебной реформы не были такими плохими патриотами, чтобы русский народ приравнивать к «дикарям».
Опасение затруднений в Приложении Судебных Уставов, говорили их составители, неосновательно, так как Уставы эти основаны на началах, выработанных не одною только теориею, но и опытом всего образованного человечества. Опасение неприменимости этих начал к нашей общественной жизни столь же немыслимо, как и сомнения в том, что мы имеем общечеловеческие способности и потребности[42].
Затем, переходя к обсуждению вопроса, действительно ли невозможно повсеместное введение судебной реформы по неимению финансовых средств и достаточного, подготовленного персонала юристов, меньшинство высказывает следующие соображения: «Недостаток денежных средств, коими может располагать правительство, независимо от общих экономических условий, происходит в особенности от несовершенства основных органов отправления правосудия, составляющего главную причину упадка кредита и промышленности. Деньги без кредита не составляют капитала производительного, а кредита не может быть при беспорядке в судебном ведомстве, и потому, если действительно нет денег, то усовершенствования судоустройства не только полезны, но и необходимы, и горестное обстоятельство, что денег нет, составляет не возражение против усовершенствований, а доказательство их необходимости.
«Недостаток людей еще менее может, – рассуждало меньшинство, – остановить правильные предположения преобразования судебных мест. Законы не могут создавать людей, но, тем не менее, если законы таковы, что люди находят в них средство для достижения дурных целей, то люди развращаются; если законы эти так неясны, что их не понимают и не могут понять, то люди и не знают законов; если законы таковы, что они не могут быть строго исполняемы даже добросовестными людьми, то люди не исполняют законов, а потому, если возражения о недостатке людей понять в том смысле, как оно обыкновенно приводится, т. е. что нет достаточного числа людей добросовестных, знающих законы и могущих их приводить в действие, то усовершенствования законов становятся необходимыми, ибо без того и не будет людей в этом смысле; следовательно, и это возражение составляет также не возражение, а доказательство необходимости преобразования судоустройства в тех государствах, где законы по этому предмету считаются по какой-либо причине недостаточными. Притом не следует преувеличивать недостатка собственно в образованных юристах. У нас существуют уже несколько десятков лет шесть университетов, четыре лицея и училище правоведения. Число обучавшихся в этих заведениях юридическим наукам не может быть незначительно. Из окончивших курс в одном училище правоведения состоит на службе 435 юристов. Если вообще до сих пор в судебном ведомстве было немного образованных юристов, то явление это объясняется тем, что доселе все служебные преимущества и законные выгоды были не на стороне судебного ведомства. Но если судебная часть получит организацию, достойную ее важного назначения, и если служба по судебному ведомству, как того требует справедливость и польза, будет иметь особенные преимущества, то не подлежит сомнению, что число образованных юристов, желающих служить на том поприще, к которому они преимущественно приготовлялись в училищах, будет весьма достаточно для преобразования судебной части».
Мнения большинства и меньшинства Бутковской комиссии были переданы на заключение министров, сенаторов, обер-прокуроров и специалистов, знакомых теоретически и практически с процессом[43]. Среди практиков многие одобряли мнение меньшинства.
При окончательном обсуждении вопроса было принято Государственным советом мнение большинства Бутковской комиссии и, таким образом, решено было ввести Судебные Уставы только в Санкт-Петербургском и Московском судебных округах (в 10 губерниях) с тем расчетом, чтобы во всей Европейской России открыть новые суды в течение четырех лет (на самом деле, как известно, даже к 25-летию не осуществлено это намерение). Что касается вопроса об отдельном введении мировых установлений, то в Государственном совете возникло разногласие: 17 членов[44] полагали возможным ввести их в 19 губерниях, 24[45] —признавали такое частное введение неудобным.
35
Читал, – заносит 5 декабря 1864 г. в свой «Дневник» проф. Никитенко, – обнародованные на днях законы о судах. Вот великолепный монумент нашего времени! Дело это станет рядом с освобождением крестьян. Между тем, о нем, за исключением небольшого круга непосредственно соприкасающихся с этим делом, очень мало говорят и думают в обществе. Какая-нибудь журнальная сплетня производит больше впечатления, чем это бессмертное дело. Я пробовал говорить об этом хоть с некоторыми из товарищей по академии, но нашел мало сочувствия. («Русск. Стар.», 1891. № 6. С.420).
36
См. Т. LXV «Дела о преобразовании судебной части в России». № 12. С. 12 и след.
37
17 июня 1865 г. акад. Никитенко в числе других признаков реакции отмечает в «Дневнике»: «Говорят, что судебная реформа откладывается в долгий ящик. А между тем ею возбуждена томительная жажда. Всякий чувствует, что без нее невозможна никакая безопасность, и всякий ожидает ее как манны небесной. Но административная или бюрократическая сила не хочет выпустить власти из своих рук». («Русск. Стар.», 1891. № 6. С. 652).
38
Т. XIX. «Дела о преоб. суд. чист.», «Журн. Госуд. совета», 1862. № 65. С. 336–367.
39
Многие думают, писал М. Н. Катков в защиту радикализма, что правило благоразумия требует не вдруг заводить хорошее, но понемножку, по частям. К сожалению, они забывают, что всякая система может развиться и принести пользу только тогда, когда взяты ее начала во всей их истине и полноте. Важны не разрозненные части системы, важен жизненный дух ее, важны ее начала. («Русск. Вест.», 1860. № 2).
40
См. Т. LXIX н.д. С. 36, оконч. сообр. комиссии.
41
См. поразительные своим легкомыслием «Очерки современной России». С. 402. – А. М.Унковский признавал столь естественным суд присяжных, что считал его применимым даже и к дикарям. (См. выше главу 1 §g). – В 1895 г. при Министерстве юстиции созвано было совещание старших председателей и прокуроров палат и оно почти единогласно (18 голосов против 2) признало деятельность суда присяжных безупречною. См. статью руководителя совещания А. Ф. Кони в № 4 «Журн. Мин. Юст.» 1895 г., а также брошюру мою «Суд над судом присяжных». М., 1895.
42
См. н. д. Т. IX. Собр. ком., ст. 34.
43
См. Т. LXIII Дела о преобр. суд. части.
44
Кн. Гагарин, гр. Сумароков, Бахтин, Норов, кн. Горчаков, Брок, Мятлин, Ковалевский, Княжевич, Назимов, Тымовский, Платонов, Муханов, гр. Толстой, Гернгросс.
45
Великий князь Константин Николаевич, гр. Клейнмихель, бар. Корф, граф Строганов, Танеев, Гасфорт, Литке, гр. Панин, Плаутин, гр. Муравьев 2-й, гр. Муравьев-Амурский, Игнатьев, кн. Суворов, бар. Ливен, Толстой, Д. Милютин, Валуев, Рейтерн, Татаринов, Н. Милютин, Замятнин, Граббе, Герстфельд, Мезенцев.