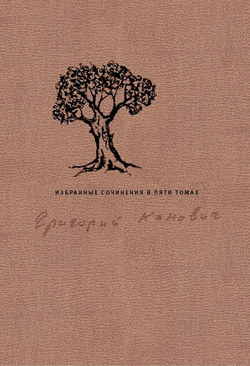Читать книгу Избранные сочинения в пяти томах. Том 4 - Григорий Канович - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Лики во тьме
IX
ОглавлениеЯ с нетерпением ждал того дня, когда Надия вкатит в палату каталку и отвезет меня на рентген, и наконец-то снимок моих легких окажется настолько хорош, что придирчивый Лазарь Моисеевич даст команду вернуть меня в кишлак и посадит на какую-нибудь попутку…
– Домой хочется? – по-разбойничьи прищурив глаз, спросил Нудель.
– Ага, – вздохнул я, хотя никакого, собственно, дома у меня и не было. Разве чужая прохудившаяся крыша с погнутой, в коростах ржавчины, воющей по-волчьи трубой; бугристый, в огуречных пупырышках, глиняный пол и окна, выходящие на деревянный нужник соседа – старого охотника Бахыта, – дом?
– Еще немножко подчистим тебя и отпустим на все четыре стороны, – сказал доктор и принялся меня выстукивать так рьяно, как дятел, из-под коры дерева извлекающий вредоносных червячков. – Мой отец Моше, как и твой родитель, был мужским портным, перед войной всю Белую Церковь и ее окрестности обшивал. Кто быстро шьет, говорил он, тот потом долго латает… Понял?
– Ага.
– А раз понял, то, пожалуйста, не вешай носа. И чтобы не очень скучал, подкатись к соседу. Мухтар – парень башковитый. Самородок республиканского значения. Такое тебе расскажет – дух перехватит. И про волков, и про диковинных птиц, и про чудо-зверя…
Безногому казаху было не больше тридцати. Скуластый, неулыбчивый, он – несмотря на увечье – ходил по палате вкрадчиво, почти незаметно, как хищный зверь, подстерегающий свою добычу. Замкнутому, сосредоточенному на себе, ему, видно, хотелось иногда излить душу, но в седьмой палате смертников излить ее было некому. Мельниченко только и делал, что метался на койке, стоном стонал или почем зря материл какого-то помвзвода Гурьева, а молоденький солдат, обмотанный бинтами, и вовсе не выказывал никаких признаков жизни. Может, поэтому выбор Мухтара пал на меня.
– Ты, мальчик, откуда будешь?
– Из Литвы.
– Из долины, значит. А я оттуда, – безногий ткнул пальцем в потолок, – с вершин. Чабан… – Он помолчал, вытер вспотевший лоб и продолжал. – У тебя что за болезнь?
– Мне легкое отбили…
– Легкое? Кто?
– Такой Кайербек. Нагайкой.
– Не может быть, не может быть, – зачастил Мухтар. – Это, наверно, плохой казах. Хороший казах не угощает гостей нагайкой. Хороший казах угощает их кумысом и бешбермеком. Выкинь его из памяти! Нечего загаживать голову дерьмом. Я на фронте вон как пострадал, но, весь пулями искусанный, безногий, этих хвашистов ни за что помнить не буду… каждую свою овечку – да, каждого ягненка – да, а их, гадов, – нет. Хотя я им, наверное, такой больше не нужен.
– Кому? – спросил я, не столько потому, что не догадался, кого он имеет в виду, сколько потому, что своим безразличием мог его от себя оттолкнуть…
– Дед мой был чабаном, и отец. Иногда кажется, что я не от женщины, а от овцы родился. И наш Аллах был пастухом. Но Он потом покинул свое стадо и шайтану передал. – Мухтар потянулся к тумбочке, налил из графина воды, отпил, закатал болтающуюся штанину. – В моей отаре было пятьсот тридцать восемь голов… плюс три собаки-волкодава… плюс лошадь-текинка… Может, говорю, не забыли. Память у скотины крепче, чем у нас… Не может быть, чтобы так скоро забыли. Овцы же – ангелы. А ангелы ничего не забывают… Что с того, что овцы по небу не летают? Ангелы!.. Только бескрылые, четвероногие, в зимних шубах… Ты когда-нибудь их глаза видел?
– Нет.
– А я в них круглый год, как в зеркало, смотрелся. Теплые, тоскливые. Если тебя никто кнутом больше не исполосует в долине, возьму тебя с собой туда… на вершину. Там, поверь, все иначе, чем внизу: и звери, и птицы, а цветы пахнут так, что самой крепкой самогонки не надо, голова кругом…
– Мама в больницу не хотела отпускать, а уж в горы… – вставил я.
– Я показал бы тебе свою отару, собак-волкодавов, мою лошадь, пастбища и пропасти, – как ни в чем не бывало, продолжал безногий пастух-сосед, – и ты, парень, понял бы тогда, кто портит мир. Нет на свете, по-моему, зверя страшнее, чем человек, когда он зверь. Чем дольше живешь в долине, тем больше убеждаешься – звереет царь природы – человек…
От башковитого Мухтара, с которым я быстро подружился, я узнал и о том, кого из раненых за время его пребывания в госпитале солдаты-санитары унесли из седьмой палаты на джувалинское кладбище. Без гробов. Гробы сколачивать было некогда и некому, да и с досками было туго – на всех не хватало.
– У казахов не принято хоронить в гробах, – сказал он.
– У нас тоже…
Ко всем живым и мертвым Мухтар относился, как к своему стаду, где перед пастухом все были равны, и где каждый мог рассчитывать на одинаковую милость; он не допытывался, кто какого роду-племени, еврей или татарин, казах или русский. Не спросил он об этом и у меня.
– Троих при мне уже закопали… Метревели, Громов, Фролов… – Мухтар медленно загибал пальцы. – Ох, и намучились они перед смертью. Считай, под Вязьмой мне ещё крупно повезло – слава богу, не весь умер… Если нас с тобой тут еще подержат, то, глядишь, и их…
Он повернул голову в сторону Мельниченко и замолк. Замолкал Мухтар надолго, как бы пресытившись собственными рассказами, и тогда разговорить его было невозможно, он мрачнел, погружался в горькие, не подлежащие огласке раздумья, либо уходил во двор и в густом табачном дыму перочинным ножичком мастерил из выломанных веток и коряг какие-то свистульки с птичьими и звериными головами. Своими изделиями Мухтар задабривал сестер и вольнонаемных поварих. Одна такая свистулька с изображением горного духа – рогоносца, покровительствующего пастухам, украшала рабочий стол начальника госпиталя полковника Нуделя, который в некотором роде был для Мухтара, как и он сам, пастухом, – в наспех сооруженном и обставленном всякими приборами и аппаратами госпитале пас раненых. Обещал Мухтар что-то вырезать и для меня на память, чтобы всласть свистал в родной Литве, но почему-то выполнять своего обещания не спешил.
Когда делать было нечего, и Надия не терзала мои вены уколами, не возила на каталке в бывший спортзал на просвечивание, а Лазарь Моисеевич не мял и не щупал меня, как курицу на рынке, я часами смотрел в потолок, под которым, как увядшая кувшинка, висела одряхлевшая электрическая лампочка, и думал о том, почему не собираются в полки и армии звери, почему никогда не идут войной друг против друга, а люди чуть что – бросаются врукопашную, палят из тяжелых орудий, бомбят, калечат друг друга. Но ответа ждать было не от кого – украинец Петро целыми днями не отзывался, а на Матусевиче (фамилию этого обитателя седьмой палаты я вычитал из медицинской карточки, висевшей в его изголовье) самоотверженная Надия то и дело меняла саван, сплетенный из бинтов. Неужели в нем Матусевича и похоронят?
– Отвернись, Гриша, или на минуточку выйди из палаты, – жалеючи меня и Матусевича, просила она.
Я выскальзывал в коридор, прислонялся спиной к непроницаемой палатной двери, и по моему телу пробегал какой-то горячий, щиплющий ток; губы начинали дрожать и невольно шептать что-то похожее на молитву или заклинание; я кого-то – может, Бога, может, ангела смерти, может, смешливого доктора Лазаря Моисеевича, – просил за этого неизвестного мне Матусевича, подорвавшегося на мине, за эту слепую, хрипящую глыбу с Донбаса – Мельниченко, отказывающегося «йисты гречневу кашу» и даже любимые «вареники з вишнями», за всех прогуливавших в госпитальном дворе под айвовыми деревьями свои до конца не зарубцевавшиеся раны, за всех, кого на санитарных машинах привезут сюда сегодня в полдень и завтра, и через неделю, и, конечно, я просил за себя. За дверью палаты было тихо; и в этой раненной навылет, кровоточащей тишине я продолжал кого-то уговаривать – Бога ли, шайтана ли – чтобы они заключили между собой перемирие и смиловались над всеми страждущими.
Надия долго не выходила, и меня вдруг охватило беспокойство – не случилось ли что-нибудь с Матусевичем? Никогда еще она не возилась там так долго. Бывало, перевяжет, перевернет на бок, чтобы пролежни не замучили, возьмет его чуткую, саперскую руку, подержит в своей белой, с пальцами-хворостинками, руке, шутливо назначит ему свидание в беседке под айвовыми деревьями и на цыпочках выскользнет из палаты.
Я услышал шаги Надии и отпрянул от двери.
– Не входи, не входи, – затараторила она. – Пока санитары справятся со своим делом, посиди, пожалуйста, в перевязочной. – Радио послушай…
– Он… – не договорил я.
– Да. Я думала, у всех белорусов глаза голубые, а, когда ему закрывала их, увидела – карие они… карие. Как подумаешь, может, для него, и лучше… Что это за жизнь, если все у тебя как сквозь мясорубку пропущено – искромсано, раздроблено? Ну что ты застыл, как по стойке «смирно»? Шагом марш отсюда! Живо!
Радио в перевязочной я слушать не стал, из репродуктора по-русски и по-казахски беспрерывно звучали унылые военные сводки, которые перемежались боевыми, чуть ли не маршевыми песнями или берущими за душу рассказами о подвигах героев – защитников Родины, но сам я его выключить не имел права, надо было дождаться Надии, которая, наверно, уже перестилала койку Матусевича, натягивала на подушки свежие наволочки – готовила ложе для другого изувеченного на фронте.
Не выходил Матусевич из головы и у меня. Существовал ли вообще такой человек? Или до последнего дня рядом со мной и Мухтаром на койке маячила только груда кем-то небрежно брошенных, пропитанных кровью бинтов? Или под боком долго таяла снежная баба, наскоро слепленная дворовой ребятней, которая не успела вложить ей в руку метлу и нахлобучить на голову ржавое ведёрко?
Если об украинце Мельниченко мы хоть что-то знали – знали, что зовут его Петро, что родом он с Донбасса, что не любит гречневую кашу и обожает вареники с вишнями, стонет от боли и рычит, то о Матусевиче, кроме его фамилии и инициалов «М. Н.», никто ничего в палате не знал. Михаил? Макар? Марк? Марат? Миней? Даже Надия, прибегавшая к нему по нескольку раз на дню, не могла похвастаться, что о нем что-то знает, и что когда-нибудь слышала его голос. Она и родину Матусевича – Беларусь – вычислила только по его фамилии. Все, что было о нем доподлинно известно, так это то, что он не голубоглазый, а кареглазый и что волосы у него не русые, а черные.
Я вдыхал лекарственный воздух перевязочной и, следя за тем, как солнце погружается в ночь, гадал: есть ли у Матусевича мама, жена, братья? Чем он всю жизнь занимался? Землю пахал? Шоферил? Дома строил?
И вдруг нагноившаяся от сострадания и горечи мысль с Матусевича переметнулась на моего отца и маму.
Я на миг представил себе, что это мой отец подорвался на мине и, весь забинтованный, как мумия, лежит где-нибудь в госпитале в Тихорецке или Ртищево, что возле него на койке сидит такая же сестра-утешительница, как веснушчатая Надия, держит его изуродованную руку в своей руке, греет и для поднятия духа в шутку назначает ему свидание в увитой плющом беседке под липами, а через час приходят дюжие санитары и уносят его на носилках на местное кладбище, где до этого не хоронили ни одного еврея, и куда мы с мамой уже никогда не придем.
В седьмую палату я вернулся, когда уже стемнело.
Койка Матусевича пустовала, и от этой пустоты и прибранности, от этого запаха свежего белья и невыветрившегося дыхания смерти у меня к горлу подступал ком, и как я его ни сглатывал, он, набухая и увеличиваясь, поднимался из желудка вверх, не давая уснуть.
– Ты чего не спишь? – проворчал Мухтар. – Спи.
– Да, да, да, – виновато зачастил я.
– Когда внезапно околел Барс – первая моя овчарка, я тоже две ночи места себе на выпасе не находил. Что уж говорить о человеке… К смерти, парень, трудно привыкнуть, хотя каждый, рано или поздно, должен эту неблагодарную работу сделать.
– Какую?
– Аллах никого на своих лугах не пасет вечно. Матусевич эту работу уже сделал и теперь может спокойно отдыхать…
На следующее утро после похорон Матусевича в седьмую палату внесли на носилках новенького с пулевыми ранениями в грудь. В тот же день Нудель позволил мне на целый час выходить во двор.
– Ты теперь на сто шагов ближе к маме, – сказал довольный Лазарь Моисеевич. – Моя Фанечка, ах, эта «идише мамэ», по этому случаю презент тебе шлет. Когда нагуляешься, забеги ко мне в кабинет…
Я ходил по двору, как только что созданный Всевышним по своему образу и подобию Адам, пялясь на все широко раскрытыми, жадными глазами, и до слез, до постыдного умиления восторгался всем вокруг: и небом, и айвовыми деревьями, и вылетающими прямо из-под ног пройдошистыми воробьями, и снующими сестрами в белых халатах; мне хотелось обнять и приласкать всех, торжественно и громогласно, как по радио, объявить, что я теперь на сто шагов ближе к маме; я совершал один круг за другим, подходил к высокому дощатому забору, за которым начиналась свобода, к проходной, в которой, облизываясь и икая, что-то смачно уплетал строгий, дороживший своим незаминированным местом дежурный; я форсисто здоровался с каждым больным, удивленно разглядывавшим мою пижаму, которая волочилась по земле. Я был весь преисполнен какой-то тайной и безвозмездной доброты и брызжущей из меня фонтаном благодарности ко всему миру, и в тот дарованный Лазарем Моисеевичем час верил, что никакой смерти на свете нет, что никто, как Матусевич, не сделает прежде времени эту страшную и неотменимую работу, что все будут жить, жить и жить…
Часов у меня не было, и я не заметил, как пролетело разрешенное доктором время.
– Гриша! – услышал я колокольчик Надии. – Прогулка кончилась.
Я подобрал полы пижамы и поспешил назад, в главный корпус. Кабинет Нуделя был полуоткрыт, но я на всякий случай тихо постучался.
– Всегда! – отозвался на стук Лазарь Моисеевич и, увидев в проеме дверей гостя, нагнулся и вынул из-под стола пузатый сверток.
Я опешил.
– «Шалахмонес», как сказала моя жена! – Нудель протянул мне презент. – Есть такое выражение на дедушкином языке?
– Есть, – улыбнулся я.
– Вот и хорошо. Значит, моя Фанечка кое-что из своего бердичевского детства еще помнит. Бердичев – это тебе, Гирш, не какая-нибудь крещёная Белая Церковь. Кушай на здоровье – всё мытое!
Я взял сверток и, забыв от волнения поблагодарить Лазаря Моисеевича, вышел. Сверток был набит дольками сушеной дыни, урюком и черносливом. Я долго к этим сухофруктам не притрагивался, неловко было их уплетать одному (Мухтар наотрез отказался: «Что я в своей жизни урюка не ел? Или дыни?»), а, может, меня удерживало другое – стыдно и грешно лакомиться, чавкать, когда рядом по-волчьи воет незрячий Мельниченко, и от койки Матусевича все еще веет могильной прохладой. Оставлю Фанины гостинцы до приезда мамы, решил я и сунул сверток в тумбочку.
Чем лучше я себя чувствовал, тем больше сомневался в том, надо ли ей приезжать в Джувалинск. Что толку в ее приезде, рассуждал я, приедет и, коротко повидавшись со мной, вынуждена будет назавтра трястись шестьдесят километров обратно? А если вдруг застрянет? На неделю. На месяц. Где тогда будет жить, что будет делать? Без языка, без работы и без крова. Ведь никто за ней в такую даль подводу не пошлет. Пусть лучше наберется терпения и дожидается меня в кишлаке. Может, сюда на какой-нибудь сабантуй нагрянет председатель Нурсултан или откуда-нибудь снова вынырнет лейтенант Энгельс Орозалиев с ответственной планшеткой на боку. А вдруг кто-нибудь из них, на мое счастье, пожелает навестить меня в госпитале. Навестит и убедится, что я уже на ногах, и через Анну Пантелеймоновну успокоит мою маму. Звонил же ей по моей просьбе Энгельс Орозалиев, как только сдал меня, избитого, в госпиталь. Позвонит еще раз – что ему стоит! Пусть мама сидит дома.
Я почему-то был уверен, что Орозалиев, появись он, мне не откажет и при первой возможности позвонит. Ведь один раз он уже проведал меня, да еще кучу вкусностей притащил – консервы, мармелад и американские галеты. Это от него же мама через Харину узнала, что я попал в хорошие руки. Лейтенант, наверно, не преминул сказать по рации и про то, что главный начальник в госпитале еврей, а еврей еврея в беде не оставит.
Но мама, видно, усомнилась в хваленом еврейском единстве и не стала дожидаться, когда я вернусь в кишлак. Взяла и в воскресный день приехала, и не одна, а с Гюльнарой Садыковной.
Я прогуливался во дворе с башковитым Мухтаром, продолжавшим даже на костылях по-прежнему упорно подниматься из ненавистной долины, из полувырубленной айвовой рощи на свои вольные луга, к отарам, к диковинным цветам и зверям, стараясь увлечь туда и меня.
– Хожу и ломаю голову, как я, калека, буду жить внизу… Что там, в долине, буду делать? Ботинки на вокзале в Андижане или в Арыси чистить, торговать на базаре арбузами или семечками, пьяницам прокисшее пиво продавать? Нет уж! Тогда лучше, как Матусевич… Или пулю в лоб! Все говорят – трусливый, как овечка… Враки! Это человек – трус… А овцы – они смелые. Они и нож, и ласку принять готовы… А мы… мы только ласку… только ласку…
Мудрствования Мухтара прервал раздавшийся во дворе истошный вопль:
– Гиршеле! Гиршеле! Зунеле![6]
– Мама твоя, что ли? – разочарованно протянул мой безногий сосед, исподволь пытавшийся обратить меня в пастушескую веру.
Мама шла как-то странно – прихрамывая, раскорячась, вразвалку, за ней, обуздывая свойственную ей решительность, следовала наша учительница; я сломя голову бросился с горных лугов Мухтара к ним, и повис у мамы на шее. Через миг мы осыпали друг дружку судорожными любовными поцелуями.
– Что с тобой? – шептала мама.
– Что с тобой? – шептал я. – Почему так тяжело ходишь? Болела?
– Не болела… Просто седлом задницу натерла…
Седлом задницу? Я не понимал, о чем она говорит, да, собственно, ни в каких объяснениях и не нуждался. Приехала, и – слава богу. Но тут вмешалась Гюльнара Садыковна, на все лады принявшаяся нахваливать маму:
– Она у тебя настоящая героиня! Кто бы мог подумать, что она такая лихая наездница! Все время подстегивала: «Быстрей, быстрей!» От самого дома до Джувалинска мы мчались по степи как угорелые… Рысак до сих пор весь в мыле…
Господи, мама прискакала ко мне на Шамилевом рысаке?!. – удивился я, но своего удивления не выдал – оно оскорбило бы ее, ведь она готова была прийти сюда пешком, приползти на четвереньках.
Я смотрел на ее развевающиеся на ветру волосы, ловя себя на том, что в них изрядно прибавилось снега, в ее притухшие глаза, из которых струилась счастливая усталость, а она утюжила рукой мою спину, как будто пыталась разгладить все прошлые и будущие мои рубцы и меты. Это поглаживание заменяло ей, видно, все слова; в самом деле, о чем говорить, если главное и так ясно – сын жив, сын вернется.
– Тебе ворох приветов, – проронила утомленная скачкой и непривычно долгим молчанием Гюльнара Садыковна, которая куда-то явно торопилась. Наверно, в энкавэдэ по поводу арестованного Шамиля или на какое-нибудь совещание. – Зоя Харина тебе даже букетик шлет. Это лаванда. А Левка просил передать, что ваш следующий матч состоится при любой погоде… А «Капитанская дочка» Пушкина и кизиловое варенье – это от меня… Читай и ешь на здоровье!
– Бегите, Гюльнара Садыковна, бегите… Может, вы сделать вашего мужа свободный из тюрьмы, – сказала мама на ломаном русском.
– А вы с Гришей скорей возвращайтесь! – пожелала директриса и заспешила к выходу.
За воротами, за которыми скрылась Гюльнара Садыковна, заливисто заржал буланый Шамиля, и вскоре оттуда донеслась отрывистая пальба из-под копыт.
«Возвращайтесь с Гришей скорей, возвращайтесь скорей» – скреблось в моих ушах, и как я себя ни убеждал, что ослышался, это пожелание звучало все громче и громче.
Неужели мама решила остаться до моей выписки? Но о выписке Лазарь Моисеевич даже не заикался. Не озадачишь же ее вопросом, собирается ли она сегодня обратно или остается? Чего доброго, надуется и решит, что зря напросилась в попутчицы к Гюльнаре Садыковне, зря задницу натерла, пока добиралась до Джувалинска. В Литве она не то что на лошадь не забиралась – даже не брала ее под уздцы.
Радость моя сморщилась, я вдруг у мамы на глазах скуксился, растерялся, засуетился, стал оглядываться по сторонам.
– Неважно себя чувствуешь? – спросила мама.
– Нет, нет… Просто лекарство пора принимать, – сказал я.
– Так чего ж ты стоишь? Беги!
– Давай еще посидим немножко.
– А лекарство?
– Попозже приму.
Время прогулки истекло, но я не торопился возвращаться в палату, куда вход посторонним был воспрещен, волнуясь, искал выход из положения, но ничего путного придумать не мог. Обратно в кишлак мама не поедет. Будет – сколько потребуется – голодать, ночевать на лавочке под хлесткими осенними дождями, таскать ведрами в госпитальную котельную уголь, мыть в палатах полы, стирать окровавленные бинты, драить портреты Сталина, но никуда, никуда не уедет – только быть бы рядом, только бы разочек в день видеться.
Мы сидели и смотрели на больных, лихо, с пришлепами и прихлопами, резавшихся на соседней лавочке в «дурака»; на моего постоянного собеседника и искусителя – чабана Мухтара, который от нечего делать пас свору драчливых кошек – кухонных иждивенок, оглашавших весь Джувалинск своим похотливым воем. Мухтар то и дело наставительно замахивался костылем на готовых к немедленному соитию горлодеров; а мы с мамой следили за их возней, за бестолковым нищенским пиршеством воробьев и молчали. А ведь еще недавно казалось, что разговорам и расспросам не будет конца, но что-то незримое стеной стояло между нами и недомолвками мешало нашему общению.
– Как тут хорошо! – наконец сказала мама.
– Хорошо, – с натугой ответил я.
– Я буду приходить к тебе каждый день, пока тебя отсюда не выпустят. – И, как бы предваряя лишние вопросы, добавила: – К кому-нибудь в кухарки наймусь. Или в няньки. Дорого не возьму… За ночлег и харчи. Я ведь, Гриша, до твоего рождения и после того, как тебя отправила в школу, еще долго у Пагирского и у Капера в прислугах была… Я знаю, тут вокруг нет ни Пагирских, ни Каперов, но ведь всюду живут евреи. Как я слышала, твой доктор тоже еврей. Говорят, есть евреи, которые даже на звездах живут… не захотели будто бы жить на земле и вовремя, как только Всевышний их создал, улетели отсюда… Ты только за меня не беспокойся – я как-нибудь устроюсь. Беги, тебе пора лекарство принимать, а я с воробышками посижу…
– Больше я к тебе выйти не смогу, – пролепетал я. – Лазарь Моисеевич рассердится.
– Докторов сердить – здоровью вредить… Прими лекарство, а я тут на лавочке с воробьями побеседую…
Я вдруг уткнулся головой в ее подол и почему-то захныкал.
– Ну чего ты, чего? Тут такой воздух, такая прохлада… Я всегда любила под деревьями спать… Сплю, а надо мной листва колышется или яблоки на ветках качаются.
– Гриша! Ты, что это режим нарушаешь? А ну-ка в палату! – издали закричала Надия.
– Ступай, ступай… Целоваться будем завтра… при встрече – сказала мама.
– Сейчас, сейчас, – с удовольствием продолжал я нарушать режим. – Как только рассветет, я тебе принесу что-нибудь поесть… у меня полная тумбочка… консервы… американские галеты… урюк, чернослив от докторши…
– Гриша! – снова по-петушиному прокричала Надия. – Пожалуюсь Лазарю Моисеевичу, и получишь на орехи!
Как только небо залило желтоватым подсолнечным маслом, я полез в тумбочку, вынул оттуда все свои запасы и под храп башковитого Мухтара украдкой выбрался в коридор. На мое счастье, двери во двор из корпуса для тяжелораненых на ночь не запирали, и я благополучно, без всяких приключений, добрался до лавочки, на которой дремала мама.
Мне не хотелось ее будить, но я боялся, что кто-нибудь меня застукает и доложит Нуделю. Тем более, что я мог и сам на него нарваться – ведь он зачастую не ночевал дома, сутками напролет не вылезал из операционной, или, как он ее называл, из мясницкой.
– Мама!
Она вздрогнула и проснулась.
– Не замерзла?
– Нет. Я тут с воробьями замечательно выспалась.
Мама взбодрилась, поправила седые волосы и, чтобы не обидеть меня, небрежно надломила американскую галету и принялась хрустеть ею в утренней тишине.
– Вкусно, – польстила. – Очень вкусно.
– Ешь, ешь, – подстегивал я ее. – Это – завтрак, а на обед гречневая каша, гуляш и компот… Все равно Петро ни к чему не притрагивается. Надия совсем замучилась с ним.
Пока она хрустела галетой, я рассказал ей об ослепшем от контузии Петре, о его простреленной печени, а она мне поведала о Розалии Соломоновне; о письме в Москву, в главное военное ведомство, откуда до сих пор ни ответа, ни привета; о Левке, который будущей весной собирается перебраться в Алма-Ату и поступить в художественное училище; о Шамиле, обвиняемом в том, что якобы что-то замышлял против власти.
Я слушал ее с каким-то долгожданным облегчением, радуясь тому, что больше не надо прибегать к недомолвкам, юлить, лицемерить, и от переполнявшей меня радости полностью расслабился и потерял бдительность.
– Ты что тут делаешь?
Из-за айвового дерева вдруг показалась кудлатая голова начальника госпиталя Лазаря Моисеевича. Он был без халата, в мундире, с полковничьей фуражкой в руке.
– Это моя мама, – застраховался я от всех вопросов.
– Мама? – удивился Нудель. – А я-то думал, что ты круглый сирота…
– Яне сирота…
– Тот, у кого есть мама, счастливец. У меня мамы уже давно нет. В сорок с лишним ушла. Рак ее сгубил. – Нудель посерьезнел и представился: – Лазарь… На дедушкином языке – Лейзер…
– Хене, – сказала мама.
На губах у нее застыли еще какие-то созревшие, важные, может, самые важные, слова, но я ухитрился опередить ее и не позволил им сорваться, боясь, что, если она заговорит, то не остановится и спросит у Лазаря-Лейзера, не нужна ли его семье нянька или кухарка.
– Надолго к нам? – невинно поинтересовался полковник.
Я не нашелся, что ответить, и мама тут же воспользовалась моей заминкой. Она вдруг обрушила на Нуделя поток слов и жестов, и мне ничего другого не оставалось делать, как только вывести из дебрей простонародного идиша ошарашенного Лазаря Моисеевича на привычную для него русскую делянку.
– Мама говорит, что до моей выписки охотно где-нибудь в Джувалинске поработала бы. Она умеет варить, стирать, мыть, латать, нянчить ребенка… – напропалую перечислял я ее достоинства и осыпал полковника снятым в Березовке и в теплушках урожаем русских глаголов. – Лучше всего, говорит она, устроиться в дом к какому-нибудь еврею…
Лазарь Моисеевич выслушал мой вольный и сильно сокращенный перевод с идиша, нахмурил черные, с проседью, брови и, воинственно выпятив грудь, прогудел:
– Говорите, у какого-нибудь еврея. Но тут в радиусе двухсот километров кроме меня ни одного еврея не обнаружено. Ближайшие, по моим сведениям, евреи живут в Чимкенте и Джамбуле. Но я подумаю над вашим предложением… Посоветуюсь со своей Фанечкой… моя жена – голова, она в некотором роде тоже «а идише мамэ».
Когда после ухода Нуделя я без всяких вольностей и сокращений перевел его ответ, мама воспрянула духом. Может, Фанечка согласится взять ее к себе – она бы ей и этому Лазарю Моисеевичу готовила все еврейские блюда – и цимес, и гефилте фиш, и кисло-сладкую селедку, рубленую и пареную, и гусиную шейку со шкварками, и медовые пряники-тейглэх, и кугель из лапши – пальчики оближешь. Если бы Фанечка согласилась – она по десять раз в день водила бы гулять их дочку или сына, или обоих вместе, да продлятся до ста двадцати дни их жизни; пела бы им еврейские песни; (в Йонаве все говорили, что у мамы прекрасный грудной голос!); если бы Фанечка согласилась – она бы каждый день, утром и вечером, мыла бы у них в доме полы, вытирала карнизы, стирала белье… Только бы Фанечка согласилась…
– Откуда тебе известно, что у него маленькие дети? – спросил я.
– Такой видный еврей не может быть бездетным. На таких спрос, как перед Пасхой на мацу, – ответила она. – У него же, как любил выражаться твой папа, дай бог ему скорей вернуться, с пестиком все в порядке, – закончила она и стыдливо улыбнулась.
Мама угадала – дети у Лазаря Моисеевича действительно были: два мальчика-близнеца. Но Фанечка не согласилась, чтобы им прекрасным грудным голосом пели еврейские песни и готовили кугель из лапши и пряники-тейглэх, рубленую и пареную селедку, гусиную шейку и гефилте фиш – кроме воблы, в здешних магазинах другой рыбой не торговали. Но дельный совет головастая Фанечка все-таки мужу дала – не гнать маму с военного объекта, каким был госпиталь, взять ее на работу в кухню – пусть картошку чистит, посуду моет, кормится там – но никому не объявлять, что она еврейка и моя мама.
Понадобились целые сутки, покуда Нудель принес дельный совет своей головастой жены под айвовое дерево, где мама провела бессонную ночь, продрогнув от холода и устав от молитв, обращенных к бессменному дежурному – Господу Богу, покровителю всех евреев. Она просила, чтобы Он сподобил ее через пятнадцать лет после замужества снова стать прислугой в чужом богатом доме.
Там, на лавочке, и нашел ее, продрогшую, начальник госпиталя – полковник медицинской службы Нудель – внук Гирша Фишбейна из Белой Церкви.
– На всякий случай я хотел бы, чтобы вы мне дали паспорт, – потратив секундочку на приветствие, обратился к маме осмотрительный и приученный к порядку Лазарь Моисеевич.
– Ой! – вскрикнула та. – Забыла!
– Без бумажки человек букашка, – буркнул Нудель. – Ну, ничего… Как-нибудь и без бумажки обойдемся. Век живи – век крутись. Только уговор: никому ничего не говорите, кто вы и откуда. Выполняйте свою работу… И не обессудьте – жить придется в каптерке. Всюду все занято. Не поселять же вас с крысами в котельной…
Мама сияла. Даже крысы не затмевали это сияние.
Был рад и я, но что-то все время умаляло мою радость, норовило полоснуть по ней нагайкой, и я тайком завидовал тем евреям, которые не захотели жить в окопах и кишлаках, в каптерках и котельных, а успели еще в древности во всем разобраться и улететь на звезды.
6
Сыночек! (идиш).