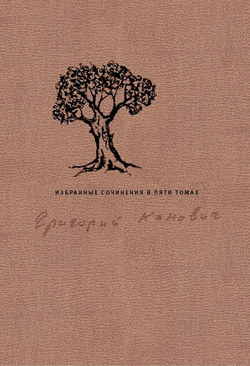Читать книгу Избранные сочинения в пяти томах. Том 4 - Григорий Канович - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Лики во тьме
VII
ОглавлениеГлухонемой от рождения Олжас, рыжий, рукастый детина в кацавейке, отороченной заячьим мехом, и в широкополой, похожей на пастушескую времянку брезентовой шляпе подкатил к самому крыльцу и под отчаянные выкрики мамы «Памелех, памелех!»[1] помог Хариной и Арону Ициковичу Гринблату, неизвестно для чего среди бела дня приглашенному своей начальницей в дом и дожидавшемуся ее у порога, извлечь меня из арбы, внести в хату и уложить на застеленный чистой простыней диван.
Мама тут же застыла, как свеча, в изголовье и, не стесняясь знакомого ей по школе долговязого Гринблата, который никогда не расставался с замаскированной под тюбетейку ермолкой, икала от волнения и негромко всхлипывала. Рыдать навзрыд у нее уже, видно, не было сил.
– Что делать? Что делать? – борясь с треклятой икотой, спрашивала она по-еврейски у всех – у Бога; у Арона Ициковича; у глухонемого возчика Олжаса, который длинными, тонкими руками отбивал лихую чечетку, пытаясь что-то объяснить пришибленной Анне Пантелеймоновне.
– Хорошо, хорошо… Поняла, Олжас, все поняла… Спасибо, миленький… – сказала хозяйка. – Будем ждать. Авось ему и впрямь поможет.
Олжас закивал головой, запахнул кацавейку и, не попрощавшись, скрылся за дверью.
– Есть тут у нас в горах свой целебный источник – Кызысу, – объяснила Харина. – Старожилы говорят, что вода из него прямо-таки чудеса творит. От язв и от ран – колотых, резаных, рваных, говорят, лучшее средство… Олжас к вечеру обещал привезти с гор два бидона.
– Почему только к вечеру? – приложив руку к моему горячему лбу, недовольно пробормотала мама и снова заохала. – Вей цу мир, вей цу мир, эр брент ви а файер…[2]
– Я, Женечка, с тобой скоро совсем еврейкой стану, – дружелюбно промолвила Анна Пантелеймоновна. – Все твои «фар вое» и «вей цу мир», я уже не хуже нашего родного русского мата понимаю. Фар вое к вечеру? – угостила ее Харина салатом из окрошки идиша и острых приправ из неисчерпаемых запасов русского. – Да потому, что отседова до этого источника Кызы-су – если даже ехать по прямой – верст десять. Не меньше. Пока Олжас обернется, пока что, первые звездочки на небе и зажгутся…
Мама не желала ждать до вечера. До первых звезд на небе было еще, ох, как далеко! До первых звезд на небе, как ей казалось, я просто сгорю – превращусь в головешку.
– Эр брент ви а файер! – повторяла она и, то и дело наклоняясь ко мне, гладила меня по голове, вздыхала, потом неожиданно и гневно требовала:
– Пожалуйста, не дайте ему умереть! Пожалуйста!
– Да он еще сто лет проживет! Что ты все время над ним вороной кружишь! Лучше открой-ка шкаф и достань с левой нижней полки льняные полотенца, смочим их колодезной водой и приложим к Гришиным ранам. А пока я сбегаю по воду, вы тут с Ароном Ициковичем на своей шпрахе о вашей прошлой хорошей жизни поговорите. Для этого я его и позвала.
Гремя ведрами, Харина выскользнула из сеней и зашагала к срубу.
Я слышал, как хлопнула дверца шкафа, как мама, продолжая хныкать, зашуршала полотенцами, как вышла из-за ширмы к переминавшемуся с ноги на ногу около дивана Арону Ициковичу и с тайной надеждой обратилась к нему с вопросом:
– Вы – счетовод, учитель, знаток Торы. Может, вы еще и доктор?
– Нет.
– Жаль, – вздохнула мама. – Еврей должен все уметь. Особенно когда ему самому худо или худо другому еврею…
– Мои родители, да будет благословенна их память, очень хотели, чтобы я стал зубным врачом, но я против их воли занялся другим делом… Всю жизнь я просидел за стеклянным окошечком в виленском Еврейском банке, день-деньской чужие деньги считал. У меня самого их было негусто, но зато плетью меня не секли, и кровью я не харкал. Дай Бог такую жизнь и вашему сыну…
Мама снова зашмыгала носом; Арон Ицикович, заметно тяготившийся своим новым занятием развлекателя, успел издать какой-то жалостливый, щемящий звук, но тут в хату с полными ведрами вернулась Харина, отдышалась, поставила их возле моего изголовья на пол и объявила:
– Водица что надо. Ну, прямо как лед! Ею и в Кремле не побрезговали бы.
Она задрала на мне рубаху, взяла у мамы полотенце, окунула его в ведро и, как блин на раскаленную сковороду, шлепнула на мои лопатки, потом смочила еще два полотенца и обложила поясницу и бока; мама безропотно наблюдала за ее размашистыми, властными движениями, похоронно постанывала, иногда с благодарным страхом восклицала «золотко мое… сердце мое, потерпи, потерпи, котик, сейчас тебе станет лучше»; Арон Ицикович машинально ей поддакивал, чтобы взбодрить не столько маму, сколько самого себя.
– Станет лучше… Обязательно станет…
– Слышишь, Гиршеле? Банкиры не обманывают. Если господин Гринблат говорит, что станет лучше, то так оно и будет.
Как ни уговаривала себя мама, как ни подлаживался к ней милосердный Гринблат, как ни колдовала надо мной Анна Пантелеймоновна, никаких перемен в моем состоянии не происходило – раскаленная сковорода не остывала, с удивительной быстротой она выпаривала из полотенец воду – хоть ведрами носи, хоть весь колодец вычерпай, хоть вози ее из Кызы-су в кишлак, как в Кремль, на самолетах. Несмотря на первоначальный приятный холодок от смоченных полотенец, и на бодрящую, как после купания в весеннем не успевшем зацвести озере, безобидную и затухающую дрожь, я по-прежнему шкварился на жгучем огне, с той только разницей, что к волдырям и ранам прибавились одышка и сухой натужный кашель – казалось, в моих легких проклюнулось что-то живое и злобное, пожиравшее в них клеточку за клеточкой. Время от времени от жара и разоренного кашлем дыхания я впадал в забытье, мой слух, еще недавно такой чуткий и небезразличный к каждому звуку, вдруг как бы затек густым, заведенным на свежих дрожжах тестом или другим, непрерывно уплотняющимся месивом; в один миг от моего сознания отключились знакомые голоса; в придавленных невидимым гнетом глазах растворились и расплылись привычные образы – мама; красный командир Иван Харин, улыбающийся на стене; банкир, учитель и знаток Торы Арон Ицикович Гринблат; наша хозяйка Анна Пантелеймоновна; мой дружок и подельник Левка Гиндин; царственный Кайербек в звездастой буденовке на своем опечаленном жестокостью хозяина рысаке – и началось беспорядочное мельтешение каких-то легких и неуловимых кругов, которые, как синие, желтые, красные обручи, один за другим бесшумно и неотвратимо катились вниз и так же бесшумно увлекали меня за собой в бездонную, жгучую и ничем, кроме забвения, уже не грозящую бездну.
Изредка, когда наступало кратковременное облегчение, ко мне возвращался выжженный горячкой слух, ненадолго откатывал от горла надсадный кашель, тяжелое, ускользающее дыхание выравнивалось, я выкарабкивался, как попавший в болото жук, из своей жгучей бездны, и в сине-желто-красных обручах, еще продолжавших мелькать предгрозовыми сполохами перед залитыми болью глазами, как на выцветших фотографиях в обветшалом семейном альбоме, туманно возникали чьи-то лица, вещи, стены и даже время, только не сегодняшнее, кишлачное, не голодное, а другое – без войны и объездчиков, без ран и кровоподтеков; все вдруг откручивалось на два-три года назад – и как прежде, за колодку усаживался мой суровый дед Давид с фамильным шилом в руке, с деревянными гвоздочками в зубах и принимался за работу с таким рвением, как будто чинил не чей-то рваный ботинок, а переделывал весь мир; бабушка Роха на покрытых засаленным фартуком коленях сосредоточенно и счастливо ощипывала для чьей-то перины прирезанного гуся; мама с распущенными, еще не заиндевевшими от напастей волосами за настежь открытым оконцем снова развешивала на веревке белье – тяжелые отцовские кальсоны и рубашки, свои шерстяные юбки и сатиновые блузки, мои легкие штанишки-коротышки и маечки; длинная веревка, прогибаясь, змеилась от нашего двора аж до бисерной низки Вилии, над гладью которой вольно, по-цыгански бродяжничало белое, никем не ощипанное облако; каждое божье утро оно выплывало из наших глаз на небесную стремнину, а вечером с усыпанного звездами и мечтами небосвода вплывало на ночлег обратно в наши глаза.
Просветление порой затягивалось, и тогда жар сменялся ознобом, меня обступала душная, потная тишина, в которую всхлипы мамы падали, как весенняя капель. Кап, кап, кап… Как ни странно, но эти ее судорожные всхлипы, воздыхания и стоны не раздражали, а успокаивали – Господи, как хорошо, что она рядом, что мы вместе и что никогда-никогда не расстанемся… Мне хотелось сказать ей об этом вслух… при Анне Пантелеймоновне, при Ароне Ициковиче, которого судьба на старости лет вынудила заботиться не о росте чужих денег в Виленском Еврейском банке, а об увеличении поголовья скота и повышении урожайности промышленной свеклы в темной и сырой, как погреб, колхозной конторе.
Мало ли о чем хотелось ей сказать… Об этом… и еще о многом, многом другом… О ее густых, черных волосах, которые там, в другом времени, развевались на ветру так, как будто она собиралась взмыть над двором и улететь; об отцовских рубашках и моих маечках, которые сохли на длинной – от нашего двора и до этих степей – веревке; о Вилии, над которой вечно бродяжничало белое, шустрое облако. Но, обессилев от жары и жажды, я не то, что сказать – вздохнуть не мог.
– Пить, пить, – простонал я, не в силах поднять веки.
– Сейчас, сейчас, – отозвались на мою просьбу обе женщины. Первая из них быстро обхватила мою голову руками (я так и не разобрал, чьи это были руки), приподняла ее, как потрескавшийся камень, а вторая поднесла к обожженным губам стакан, и я жадно всосался в грань стекла, из которого в мое горло медленно втекала прохладная и спасительная струйка.
– Пей!
– Пей!
– Пить, молодой человек, надо как можно больше! – своим басом поддержал маму и Харину никогда и никем не сеченный Гринблат. – Вода усмиряет жар.
Арон Ицикович еще что-то пробасил, но его умных и полезных наставлений я уже не слышал. Я был рад, что он не ушел, что остался с мамой, которая в окружении не евреев всегда терялась и за год с лишним так и не научилась, как себя с ними вести. Со своими, даже забывшими, как продавщица Роза Варшавская из Борисова, родной язык – идиш, она чувствовала себя куда уверенней. Любой еврей, не раз вразумляла она меня, все равно, что дальний родственник – если и не протянет руку помощи, то и первым тебе ее не выкрутит.
Превозмогая боль, я высосал из стакана всю воду и снова уронил голову на подушку.
– Ну вот, слава богу, попил. А теперь усни! – приговаривала мама.
Раньше меня не надо было упрашивать – стоило только уткнуться в подушку, как сон меня обволакивал, точно листва придорожную липу, и я весь зарастал тихо шелестящими, навевающими прохладу листьями, но сейчас листья пожухли, осыпались, и кто-то их сгребал лопатой в кучу и поджигал.
Сознание мое раз за разом то прояснялось, то замутнялось; меня бросало, как на качелях, от бреда и беспамятства к плавающей в белесом тумане яви. Распластанный ничком на продавленном, пропахшем сыростью и плесенью диване, обложенный со всех сторон мокрыми полотенцами, я, как слепой, тыкался носом в драную обивку и никого не видел, только в редкие минуты, когда уши освобождались от ига жаркой и несносной глухоты, до меня действительно долетали голоса. Их, как мне казалось, с каждым просветлением становилось все больше.
– Гриша, что – заболел?
Это из школы пришла Зойка.
– Т-с-с-с!..
Это цыкнула на дочку Анна Пантелеймоновна.
– Главное, чтобы легкие не были задеты.
Это бас Арона Ициковича.
– Финцтер из мир ун битер![3]
Это твердила мама. Ее голос я бы даже из могилы узнал.
– Подождем до завтра. – Харина.
– Морген… Ун вос вет зайн морген? Бис морген кен мен нох штарбн! – Мама.
– Она спрашивает, а что будет завтра? До завтра можно и умереть… – Гринблат…
– Глупости… Ура! Олжас приехал! Тебе, дружок, за скорость орден полагается!..
Раз Олжас приехал, значит, уже вечер наступил, скоро наступит ночь. Интересно, куда ляжет мама? Ведь она может во сне (если, конечно, уснет) ненароком меня локтем толкнуть – постелит себе, наверно, на полу и глаз не сомкнет; будет до утра ловить каждый мой вздох; менять полотенца; обвевать своей блузкой, той самой, сатиновой, которая когда-то сохла на веревке, протянутой через всю нашу жизнь; поить чудотворной водой из Кызы-су, которую пьют в Москве, в Кремле…
В хате потемнело, но голосов не убавилось. Глухонемой Олжас, и тот давал о себе знать – было слышно, как он с шумом опорожняет трескучие бидоны – переливает привезенную воду в пустые ведра.
– Иа! Иа! Иа!
Это ишак Бахыта, которого загнали на ночь в сарай.
– Я принес Гришину долю. На пару блинов, думаю, хватит. Колоски мы с Зоей можем вылущить. – Левка.
Какая почтительность – с Зоей! Как-нибудь без его блинов обойдемся…
– Бандит! В штрафную роту таких!
Это Гюльнара Садыковна, похожая на Мамлакат, выплеснула против Кайербека и всего рода Рымбаевых свою бессильную, не вязавшуюся ни с какими педагогическими правилами злобу.
– Вей цу мир! Вей цу мир! – от всеобщего сочувствия еще пуще воспламенилась мама.
Народу в хате набилось столько, сколько бывает на похоронах.
Впервые я, помнится, участвовал в похоронах, когда учился в третьем классе; хоронили моего одноклассника – отчаянного Авремеле Гоникмана, который поспорил, что одним махом, без остановки дважды переплывет Вилию, и у левого – не самого глубокого – берега взял и проиграл пари. Если бы не Соре-Двойре – мама утопленника, то эти похороны ничем не отличались бы от других. Были бы похороны как похороны. Но Соре-Двойре стояла над трупом, завернутым в саван, и, сложив люлькой руки, бесслезно, враскачку, пела… колыбельную:
– Шлоф, майн кинд, фармах ди ойгн[4], люли, люли, лю…
Под эту колыбельную слезы роняли не только люди, но и стены. Прислушиваясь к разноголосице в харинской хате и сжимая зубы, я клялся, что во что бы то ни стало доплыву и обязательно выберусь на берег!.. Ведь кто-то из нас должен доплыть и выиграть пари у голода, у жестокости, у смерти: если не отец на фронте, то я тут, в кишлаке, если не я, то отец – разве можно оставлять маму одну в этом чужом и несправедливом мире?..
Разве можно?
Мои глаза затягивались бельмом лихорадки, и до того, как сызнова впасть в забытье, я все-таки ухитрился различить среди голосов еще один – прокуренный, сиплый, с характерной хрипотцой.
Неужели старый охотник Бахыт?
– Что с того, что Кайербек – мой сын? Аллах всех наказывает по справедливости. Он и его накажет.
Бахыт, Бахыт!.. Он и Гюльнара Садыковна под одной крышей?!
И вдруг все оборвалось, мостки к яви обломились, я забарахтался в пышущей печным жаром тине; тина вздувалась, пузырилась, и мой слух снова покорился неумолимой глухоте.
Всю ночь я бредил, метался, кого-то громко и нетерпеливо звал, будил набатным кашлем Зойку и Анну Пантелеймоновну, бессовестно харкал на подушку; мама, всклокоченная, дрожащая, то и дело вскакивала с мохнатой овчины Ивана Харина, расстеленной на глиняном полу, наклонялась надо мной, меняла высохшие полотенца, смачивала волшебной водой из Кызы-су мои зачерствелые губы, но эта волшебная жидкость, видно, на простых смертных не действовала или действовала не так быстро, как на тех, кто потягивал ее в Кремле.
Утром мама обнаружила на подушке и на простыне красные пятна и ужаснулась.
– Кровь! Кровь!.. – всполошилась она и, бросившись к уходящей хозяйке, вцепилась ей в рукав и потащила к дивану. – Он… он, – мама с трудом подыскивала русские слова, – кашляет с кровью. Ой, а клог цу мир ун цу але майне йорн![5]
Анна Пантелеймоновна уставилась на пятна, наморщила лоб и сказала:
– Твоя правда, Женечка… с кровью. Я поговорю с председателем. Может быть, в Джувалинск в ближайшие дни какая-нибудь подвода пойдет или, на наше счастье, машина. Вода из Кызы-су – это хорошо, и мумие, которое не из жалости, конечно, а чтобы своего звереныша выгородить, принес этот пройдоха Бахыт, это тоже неплохо, но лучше все-таки больница. Авось удастся часть груза снять и взамен подсадить тебя и Гришу. Попробую убедить Нурсултана. Он – бай и самодур, но самодур отходчивый, с душой… Глядишь, и выручит нас… Правильно, Женечка, я думаю?
Мама только заохала.
– Поохала бы и я с тобой, да работа ждет… ведь я еще и партейный секретарь… Ты о такой должности, небось, и слыхом не слыхала… ну и ладно… Если узнаю чего хорошего, сразу посланника пришлю… Арона Ициковича.
И вышла.
Пополудни с благой, как он сказал, вестью, явился Гринблат.
– Годовой отчет, слава богу, составили и отправили куда следует, можно сейчас немножко и дух перевести.
Мама насупилась. Начал бы не с годового отчета, а с благой вести. За что, за что, а за годовой отчет мама не беспокоилась. В нем, конечно, и намека нет ни на гниющие под дождем колоски, ни на нагайку Кайербека, ни на кровохарканье…
Гринблат сел за стол, вынул носовой платок, снял ермолку, вытер золотник лысины.
– Госпожа Харина просила передать, что в конце этой недели в Джувалинск отправится подвода с новобранцами. Председатель Нурсултан вроде бы договорился с военным начальством насчет вашего Гиршеле. Его с ними переправят в больницу.
Долгое и недружелюбное молчание мамы удивило и покоробило Гринблата:
– Вы что, не рады?
Мама смотрела на него исподлобья, стараясь усмирить взбунтовавшиеся ноздри, и нервно – в который раз – зачесывала ладонью свои смоляные, с проседью, волосы.
– Переправят Гиршеле? – тихо переспросила она.
– Да.
– Только Гиршеле?
– Насчет вас госпожа Харина ничего не говорила. – Арон Ицикович снова полез в карман, извлек оттуда носовой платок и, волнуясь, снова принялся натирать свой золотник на макушке. – Если я правильно понял, – смягчился он, – все еще будет зависеть от того, сколько молодых людей повезут на убой.
– На убой?
– Война, уважаемая, не свадьба… – сочувственно вздохнул Гринблат и, спохватившись, не перешагнул ли он дозволенную черту, тут же попытался переломить разговор и вернуться к порученной ему Анной Пантелеймоновной роли доброго вестника и вспоминателя прошлой – хорошей – жизни в Литве. – Простите за любопытство, отделения каких банков были в вашем местечке… кажется, в Йонаве?
Вопрос Арона Ициковича отклика у мамы не вызвал.
– Земельного? Народного Еврейского?
Арон Ицикович опасался говорить о бойне, о болезнях, но не знал, чем занять маму, о чем беседовать с несчастной женщиной, чтобы хоть чуть-чуть отвлечь ее от дурных мыслей. Щепетильный, богобоязненный Гринблат с незнакомыми дамами не общался, а если и общался, то только по делам службы – охотно и терпеливо разъяснял им, под какой процент выгодней вкладывать злоты либо литы и журил за то, что те, как всегда, опаздывают с оплатой счетов.
– Большинство деньги держало в чулке, – отрезала мама.
– Да, да, – пожалев о своем промахе – разговоре о бойне, – затараторил Гринблат. – Мои родители, между прочим, тоже их держали в женском чулке. С детства мне очень хотелось выбиться из бедности, и помочь отцу и матери набить чулок доверху. Это, конечно, смешно, но я мечтал стать мореходом и где-нибудь открыть для евреев страну или остров, где золото растет, как в Польше морковка в огороде.
Мой кашель прервал его рассказ.
– Господи, что будет, Господи? – вторил кашлю мамин стон.
– Успокойтесь, уважаемая. Бог даст, ваш сын скоро встанет на ноги. – И не давая ей возразить, он снова, как с косогора в реку, сиганул в свое детство. – О чем это мы с вами говорили? Ах, да – о деньгах в чулке. Так вот… Когда я немного подрос, то воспылал желанием завести собственную сахарную фабрику, чтобы моему отцу не надо было бы оглядываться, как на жандарма, на маму, когда он в чай не одну ложечку клал, а целых две… Смешно, не правда ли?
– Сладкого евреям всегда не хватало, – неожиданно откликнулась на его рассказ мама и впервые обратилась к Гринблату с просьбой. – Помогите, пожалуйста, сменить на Гиршеле рубаху. Он весь пропотел. Солнышко мое, попробуем посадить тебя и переодеть!..
Своего белья, как и одежды, ни у меня, ни у мамы не было (в сорок первом мы вышли из дому с крохотным чемоданчиком, большим капризным зонтом и набором ключей в руке, надеясь под победоносный грохот советской брони и стали через день-другой вернуться восвояси), бельем нас снабжала щедрая Анна Пантелеймоновна, которая для его хранения отвела даже отдельную полочку в расшатанном, с облупленной краской, двустворчатом фанерном шкафу. В наследство от улыбчивого Ивана Харина мне достались две поношенные зеленые гимнастерки (с одной хозяйка не успела даже отвинтить пожелтевший значок «Отличник боевой и политической подготовки») и пара давно не надеванных, пахнущих нафталином, нижних, из грубой материи, рубах, которые мама сузила и укоротила, потому что они закрывали мои коленки; сама она тоже не была обделена – получила в вечное пользование почти новую комбинацию с тонкими бретельками, крепдешиновое платье, маркизетовую блузку с вышитой незабудкой на груди и теплую вязаную кофту с большими слюдяными пуговицами.
Арон Ицикович, устало улыбаясь, помог мне чуть-чуть подняться, я едва заметным кивком головы поблагодарил его; мама напялила на меня укороченную рубаху, и на том переодевание кончилось.
– Легче, Гиршеле? – мама разгладила, как морщины, на моей рубахе складки.
Все, на что я был способен, это на чуть заметное покачивание головой.
– Вот видите – ему легче, – ухватился за мой ответ не привыкший за стеклянным окошечком в Виленском колониальном банке ко лжи Гринблат. – Ну? Кто после этого посмеет сказать, что Бог с нами в разводе? Бог евреев от нас ни на минутку не отлучается. Это, скажу вам, не их Иисус Христос и не их Аллах. Наш на коне по небесам, как по ипподрому, не скачет, на ишаке по Иерусалиму не катается!.. Может, ваш Гиршеле и без больницы поправится?
– Все равно я одного не отпущу, – сказала мама. – Мужа отпустила одного, и… пропал.
Арон Ицикович в спор с ней не ввязался, щелкнул крышкой карманных часов, громко и смачно высморкался в свой универсальный носовой платок, но не хлопнул дверью, остался в хате, в которой вдруг стало тихо, и в этой тишине унявшаяся было боль снова расхрабрилась, кашель, загнанный куда-то в желудок, вырвался с шипением наружу, и я чуть не задохнулся.
Тишина казалась враждебной, и оттого меня так и подмывало крикнуть маме и Гринблату: «Говорите! Когда вы говорите, мне и впрямь легче. Говорите о чем угодно – об открытии новых стран, где золото растет, как морковка в огороде, и где никто не жалуется на бедность; о выгодных банковских процентах и дамах, вовремя не платящих по счету; о богах, которые и скачут на коне и катаются на ишаке по Иерусалиму; говорите, умоляю вас, но у меня не было сил раскрыть рот, заклеенный жаркой, неостывающей слюной, и я сам не заметил, как вскоре забылся коротким и судорожным сном.
Когда я проснулся, Арона Ициковича в хате уже не было.
Напротив дивана, за столом – судя по голосам – сидели только женщины – мама, Анна Пантелеймоновна и… Гиндина.
– Ты же, Женечка, не навеки с ним расстаешься? – кипятилась хозяйка. – Подлечат немножечко и вернут. Кому там в госпитале здоровый нужен?
– Товарищ Харина права, – пристроилась к хозяйке Розалия Соломоновна. – Через некоторое время, когда ему, Евгения Семеновна, станет лучше, и вы сможете туда подъехать… По-моему, мальчика дольше оставлять в кишлаке рискованно.
– Нурсултан Абаевич говорит, что в госпитале полно докторов из ваших… В прошлом году ему там слепую кишку тоже еврей вырезал. Стоит за столом в операционной, весь в белом, режет себе помаленьку нашего Нурсултана и напевает под нос Утесова: «Легко на сердце от песни веселой…». Ты что, Женечка, молчишь? Пойми, подвода – не резиновая, для двоих места нету. Нету, и точка. Все, что отправляется – только на фронт! Понимаешь, все для фронта. Хлеб, мясо, овощи, шерсть, бензин, новобранцы. Я у Нурсултана и одно-то местечко еле выпросила, на колени перед басурманом бухнулась. Хочешь своим упрямством мальца погубить?.. Мы же тебе, тудыть твою кочерыжку, не враги!.. Я тебе враг? Розалия Соломоновна – враг?.. Ты сама себе вражина!..
Мама ответила ей на понятном каждому языке – заплакала.
– Это еще что? Сейчас же возьми себя в руки! Прекрати немедленно этот рев, слышишь! Как ты смеешь плакать! Это я каждый день должна реветь… эта она, Розалия Соломоновна, должна… а ты… при живом-то муже и сыне… права не имеешь… Не гневи Бога, у Него тоже нервы расшатаны.
Харина хватила беспризорной рюмкой об пол, вскочила под звон осколков из-за стола, принялась солдатскими шагами мерить комнату и сама заголосила.
– Ну что вы, что вы… – разволновалась Гиндина. – Раз Евгении Семеновне хочется поплакать, пускай… Слез у всех вдоволь… на слезы Господь не поскупился… дал каждому на две… на три жизни вперед… пускай… и мне тоже, честно говоря, часто хочется… даже очень и очень хочется…
Гиндина засопела и вслед за ними легко и освобожденно зарыдала.
Каждая оплакивала что-то свое, невысказанное, глубоко упрятанное от других, и от этого их скорбного единства, от этого сблизившего и соединившего их плача мне было и страшно, и хорошо.
Неделя подходила к концу, но подводы, которая должна была отправиться с собранными в округе призывниками на сборный пункт в Джувалинск, не было, и мама совсем скуксилась; от ее решительности остались клочья – одни вздохи и тягучие самодельные молитвы. Она молила Бога, чтобы все обошлось без больницы: чтобы у меня прекратилось кровохарканье и к концу недели упала температура. Но Всевышний не внял ее молитвам – Он только, как маляр, махнул кистью и к багровым, набухшим полосам на моей спине добавил пятна желтой краски да слегка от бурьяна прополол мои уши.
Услышав скрип колес, мама тут же бросалась к окну. Но на тарахтевших мимо телегах провозили мимо что угодно – сено и силос, обломки камней и не струганные доски, мешки с обмолоченным зерном и живность – только не новобранцев. Порой нетерпение ломало ее давнюю привычку – угрюмо молчать, вздыхать и вытирать глаза, и тогда она исподволь пыталась что-то выведать у хозяйки.
– Тебя, Женечка, как и Карла Маркса, сразу не раскусишь, – сердилась Харина. – То ты кричишь: «Только через мой труп! Одного не пущу!», то ждешь-не дождешься подводы. Не волнуйся – подвода с новобранцами мимо не прошмыгнет.
– А как там, в больнице, кормят?
– Получше, чем у нас. Кто же безногих и безруких голодом морит?..
– Но у Гиршеле… обе ноги и обе руки.
– Ну и что? По-ихнему – он все равно раненый… Разве объездчик – не немец?.. Да если хочешь знать, Кайербек в сто раз хуже! Форменный фашист! Я таких бы при всем честном народе за яйца вешала!..
Как и говорила Харина, новобранцы, облаянные незлобивым Рыжиком, не прошмыгнули мимо – явились точно в срок субботним утром. Длинная подвода с высокими грядками, в которую была запряжена пара крепких низкорослых лошадей, и из которой в синее небо дружно тянулось десятка полтора папиросных дымков, остановилась напротив хаты.
– А ну-ка быстренько одеваться! – скомандовала Харина.
Мама засуетилась, побежала к двустворчатому шкафу, Анна Пантелеймоновна и Зойка подхватили меня под мышки, приподняли, я, скрывая боль, спустил на пол босые, в цыпках, ноги, отвыкшие за неделю ходить, и мама напялила на меня наследственную гимнастерку, которая в госпитале на военврачей должна была произвести неотразимое впечатление.
Пока меня обували, в хату вошли Нурсултан Абаевич и молодой скуластый офицер с ответственной планшеткой на боку.
– Можете, Аня, не спешить, – сказал Нурсултан.
Шнурок на моем ботинке так и застыл в руках мамы. Как это не спешить? Не возьмут? Получила, чего хотела!
Я же не знал, радоваться ли мне или сокрушаться.
– Пусть ребята покурят, – буркнул невозмутимый председатель. – Кто знает, что их через месяц-другой ждет… Может, это их последняя затяжка на родине, – он подошел к дивану, потрепал меня за ухо и спросил: – А тебя, боец, как зовут?
– Гриша!
– Хорошее имя… Есть у меня, Гриша, просьба. Когда приедешь в госпиталь, разыщи начальника – доктора Нуделя – Лазаря Моисеевича… Запомнишь?.. Когда найдешь, передай ему от меня привет… Он у меня кое-что вырезал… на память…
– Лазаря Моисеевича, – повторил я.
– И еще вот что: передай ему посылочку – маленько меду и кружок овечьего сыра. Все это уже в телеге. Там одна баночка – для тебя… чтобы поскорей выздоровел. Только смотри, не разбей – дорога скользкая, осень, ливни…
– Спасибо, – сказал я дрожа.
– Спасибо, – поблагодарила Нурсултана Харина. – Но наш боец своим ходом до подводы не доберется. Его надо вынести.
– Вынесем! Руки у нас крепкие. Кто только пожелает, того и вынесем, – не спуская глаз с раскрасневшейся хозяйки, своей должницы, и, обнажая подъеденные цингой зубы, плутовато засмеялся всесильный председатель.
Когда меня вынесли из хаты, около воза с курильщиками уже стояли Гиндины и тыкавшийся замурзанной мордой в грядки ишак старого охотника Бахыта, то ли от скуки увязавшийся за Левкой и Розалией Соломоновной, то ли учуявший запах сена.
Четверо рослых и бравых новобранцев, видно, предупрежденных заранее, погасили свои дешевые, обсосанные папироски, спрыгнули с воза и радушно развернули в воздухе потрепанную кошму, на которую меня аккуратно уложили председатель Нурсултан и его скуластый спутник. Подняв кошму над грядками, потревоженные курильщики опасливо передали груз своим товарищам и сами забрались в подводу.
– Иа! Иа! Иа! – вдруг заржал ишак Бахыта, которому после долгих попыток удалось мокрым и удачливым языком умыкнуть из щели в тележных грядках пучок свежего корма.
– Счастливо, Гриша, – напутствовала меня Розалия Соломоновна.
– Мы ждем тебя, – не сговариваясь, одновременно крикнули Зойка и Левка.
– Не скучай, – помахала рукой тетя Аня.
– Поехали, братцы! – скомандовал лейтенант и подарил на прощание председателю Нурсултану свое крепкое, боевое рукопожатие.
– Я провожу тебя, Гиршеле, только провожу, – тихо сказала мама, боясь, что ей и шага не дадут шагнуть, и двинулась за переполненным, отправлявшимся на войну возом, где во все времена ни для одной матери на свете не оставляли свободного места.
Телега выкатила за околицу, свернула на затопленный ливнем степной большак, а мама все шла и шла.
– Идите, мамаша, домой! – оглядываясь на ее сгорбленную фигуру, командирским голосом то и дело приказывал ей лейтенант с ответственной планшеткой на боку. – Скоро ночь!..
– Идите, мамаша, домой! – перекрикивая друг друга и поддерживая своего командира, задорно упрашивали новобранцы.
Но она, упрямица, их словно не слышала – шла сквозь ночь, сквозь время, сквозь все еврейские несчастья, пока не растворилась в сгустившейся темноте.
1
Осторожно, осторожно! (идиш).
2
Горе мне, горе мне, он весь огнем горит (идиш).
3
Черно мне и горько! (идиш).
4
Спи, сынок, закрой ты глазки… (идиш).
5
Горе мне! Проклята я на все мои годы! (идиш).