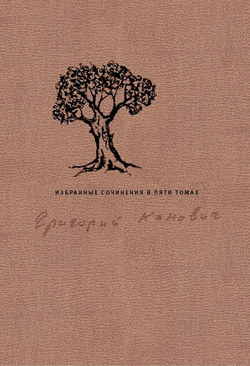Читать книгу Избранные сочинения в пяти томах. Том 4 - Григорий Канович - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Лики во тьме
X
ОглавлениеКаждый божий день – обычно это происходило по ночам – с зачуханной железнодорожной станции Джувалинск в госпиталь на ленд-лизовских машинах привозили новеньких, и я, проснувшись от топота ног за дверью, отчетливо слышал, как санитары и сестры, переругиваясь, спешно, из-за отсутствия мест в палатах, укладывают в коридоре раненых – кого на раздрызганных раскладушках, кого на дырявых матрацах, а кого и на буром от въевшейся пыли дощатом полу.
Пробираясь в полдень к выходу по окровавленному, стонущему коридору мимо новичков, я никак не мог побороть в себе тяжелого чувства, в котором смешивались и жалость, и стыд, и раскаяние. В то время, корил я себя, как на моих глазах кто-то из этих ребят истекает кровью, я, не раненный, уже почти здоровый, валяюсь, как барин, в чистой постели и, лакомясь урюком или дыней, спокойно поглядываю в потолок, где огромный паук, черной свастикой повисший над моей головой, упоенно ткет свою ловчую паутину.
Спеша на прогулку или на свиданье с мамой под айвовыми деревьями, я старался ни на минутку не задерживаться в коридоре – зажмуривался и быстро пробегал по нему, как побитая за какую-нибудь пакость дворняга. И не потому, что боялся их залитых отчаянием, почти остекленевших взглядов, не потому, что для меня в новинку были кровь, стоны и хрипы (в хозяйстве Лазаря Моисеевича я за месяц повидал и наслушался всякого – пожалуй, на всю жизнь хватит), а потому, что новенькие могли уличить меня в том, в чем я не был перед ними виноват. Разве это я их послал на фронт? Разве это я в них палил из пушек и орудий? Скажи Лазарь Моисеевич слово – и я, не мешкая, уступлю кому-нибудь из них свою койку, и пусть скорей выздоравливает, а я побегу на кухню к маме, возьму ее за руку и – на развилку, туда, где узкая колея ныряет в степь, как очковая змея в нору за мышью-полевкой или тушканчиком. До дому такую даль можно с мамой и на своих двоих одолеть.
Томился от соседства новеньких и мой верный собеседник – Мухтар.
– Пора нам, Гриша, отсюда убираться. Побыли, и ладно. Перед ребятами совестно, – сказал он, с трудом пробравшись на костылях по коридору и примостившись рядом на лавочке. – Свалены, куда попало. Как мертвецы. Как только Лазарь возвратится из округа, попрошу, чтобы выписал. Доберусь до родной Арыси, откуда призывался, снимусь по инвалидности с учета, и будь что будет… – Он помолчал, похлопал себя по обрубку и спросил: – Мамку ждешь?
– Да.
Кроме Мухтара и Нуделя, ни одна живая душа в госпитале не знала о нашей тайне. Как я ни бился над разгадкой того, почему мой заступник и целитель – Лазарь Моисеевич строго-настрого запретил говорить, что это моя мама и что она еврейка, ответа на свой колючий вопрос я так и не нашел. В самом деле – где это слыхано, чтобы еврей, к тому же главный начальник, запрещал такое другому еврею.
– Так надо, – сказала мама. В отличие от меня она не задумывалась над причинами запрета. Запретил так запретил. Начальству виднее. Мало ли чего в жизни запрещается делать. Порой запрещают жить – нельзя, и все, а человек вопреки всем запретам живет. Главным для нее было то, что Нудель не выгнал ее, разрешил остаться и видеться с сыном. Она, безрассудная, даже помышляла о том, чтобы никуда не возвращаться – написать письмо Хариной, так, мол, и так, за приют и ласку спасибо, но обратно не ждите, мы решили переждать войну в Джувалинске. Джувалинск все-таки не кишлак, а вполне приличный городок – зеленый, с водокачкой, железнодорожным вокзалом и тремя магазинами, пускай и не во всем похож на родную Йонаву, но чем-то все же похож. Если бы еще мимо текла река, такая, как Вилия, и в Джувалинске проживали бы не только казахи, но и евреи, то здесь можно было бы осесть, пока не вернется отец. Для кого – для кого, а для портного работа всюду найдется. Сидел бы и спокойно шил – кому костюмы и пальто, а кому солдатские полушубки, а то и расписные казахские халаты на вате.
О добровольном возвращении в колхоз мама и слышать не хотела. Стоило мне только заикнуться о незавидном положении раненых в коридоре, как она тут же раздувала ноздри:
– Жалко их, конечно. Что и говорить. А разве тебя самого не жалко? Нашу хозяйку – не жалко? Розалию Соломоновну не жалко? Всех жалко. Несчастных на свете всегда больше, чем счастливых. И сейчас куда ни глянь или ни шагни – несчастный. У кого ноги нет, у кого – хлеба, у кого – крыши над головой.
Мама развернула какую-то тряпицу, достала оттуда ломтик хлеба, раскрошила и рассыпала воробьям, которые серым ливнем пролились на землю и, стараясь опередить друг друга, принялись весело и жадно склевывать крохи.
– Если ты, Гиршеле, хочешь в этом мире выжить, думай прежде всего о себе, а не о своей вине перед другими. В жизни невиноватых нет… Все мы, сынок, виноватые… Никому пока не удалось прожить без того, чтобы ни разу не провиниться перед другими…
Я слушал, как бы соглашаясь с ней, но что-то во мне противилось ее суждениям, предостерегавшим меня от опрометчивых поступков, о которых я и не думал и к которым совершенно не был готов – это отчаянный Мухтар может, не долечившись, попроситься на волю или сам в один прекрасный день уйти из госпиталя в пижаме и с казенными костылями, я же себе не принадлежал, был все время чьим-то придатком и ходячим имуществом, от меня мало что зависело, но я предчувствовал, что в моей жизни, а, значит, и в жизни мамы, что-то изменится – здоровье мое шло на поправку, раны заживали быстро, легче и смачней дышалось, из единственного зеркала в деревянной покоробившейся раме, висевшего над умывальником в госпитальном туалете, на меня смотрел другой, почти незнакомый мальчик – порозовевший, с длинными девчоночьими волосами и толстыми, как будто накачанными воздухом, щеками…
На близость и неизбежность перемен намекала своим поведением и вездесущая Надия, которая все реже терзала мои ягодицы уколами, водила (водила, а не возила, как раньше, на каталке) в спортзал на просвечивание, закрывала глаза на явные нарушения режима – я сколько угодно мог шататься по двору, ловить не успевших спрятаться на зиму бабочек, охотиться на ящериц, командовать воробьями и вести на лавочке бесконечные беседы с безногим Мухтаром.
Мама относилась к моим предчувствиям с великодушной усмешкой, порицала меня за излишнюю мнительность, но вскоре, хочешь-не хочешь, была вынуждена признать мою правоту – предчувствия меня не обманули.
Как только Нудель вернулся из Алма-Аты, все закрутилось, завертелось – часть раненых по его приказу из коридора немедленно перевели в просторный полковничий кабинет, а часть разместили в красном уголке, где иногда проводились обрядовые политинформации и при помощи старенького, трескучего проектора выздоравливающим демонстрировались отечественные комедии…
– Жопы безмозглые! – кричал на врачей и сестер Лазарь Моисеевич. – Вам не прикажи, так вы, оболтусы, сами и пальцем не пошевелите! Всех, к чертовой матери, уволю!
Свирепый Нудель обещал уволить всех, а уволил только… Мухтара – уважил его просьбу и выписал: ноги – не волосы, не отрастают.
– Ну вот… пора, Гриша, прощаться, – тихо, после встречи с Нуделем, произнес чабан. Он был уже в другой, не привычной для меня одежде – не в широкой, потертой пижаме, а в гимнастерке, плотно облегавшей его упругое, натянутое, как тетива, тело, и в грубошерстных армейских штанах, правая штанина была закатана до самого колена и заколота сверху булавками, чтобы не болталась при ходьбе. – Жаль только – ботинок не мой… Гимнастерка, штаны – мои. А он хрен знает чей. Жмет, подлюка… Мой ботинок искали, искали, но так и не нашли… Дали со склада чужой. Может, Матусевича, может, бедняги Фролова. Ну, ничего – как-нибудь до дому дошкандыбаю.
Мухтар порылся в тумбочке, извлек оттуда вырезанную из самшита затейливую свистульку, изображающую лопоухого ягненка, протянул мне и шутливо пробормотал:
– Случись с тобой что, свистни… Замекай… И я прискачу на своей текинке на помощь… Ладно?
Я приложил свистульку к губам и тихонько подул.
Звук у нее был чистый и прозрачный. Он как бы вдруг незримо соединил в палате всех: и вольноотпущенника Мухтара, и меня, и неподвижного, окаменевшего Петро Мельниченко, который приподнял забинтованную голову, попытался было удержать ее, чтобы продлить это мгновение, видно, напомнившее ему о чем-то давнем, почти забытом, но тут же снова бессильно уронил ее на подушку.
– Прощай, Петро… Прощай, Гриша.
Я еще долго стоял у окна и смотрел, как уходит Мухтар. Он шел, не оглядываясь, подпрыгивая на костылях, и мне казалось, что он идет не один, что следом за ним послушно бредет его отара – все пятьсот тридцать восемь голов! – за нестрижеными овцами, виляя хвостами, трусят его три верные собаки-волкодавы, за собаками цокает копытами его лошадь-текинка с привязанным к седлу бурдюком, полным кумыса, и все они движутся не к проходной, не к госпитальным воротам, а туда, на горные луга, где все – и цветы, и звери, и люди – счастливы потому, что неразлучны.
Я не замечал времени, стоял у окна и тер ладонью стекло, и чем больше я его тер, тем туманней оно становилось.
Через неделю после выписки чабана пришла и моя очередь.
Свой приговор мне Лазарь Моисеевич мог вынести в любую минуту. Я гадал, что он решит – оставит в госпитале для дальнейшего лечения или, снабдив на дорогу таблетками и порошками, отправит обратно в колхоз. Сам я, по правде говоря, был готов к любому повороту событий. Нудель и так для меня сделал столько, что я его доброты до самой смерти не забуду. Как Лазарь Моисеевич скажет, рассуждал я, так тому и быть. Скажет: оставайся – останусь и буду дальше баклуши бить, валяться целыми днями в постели, съедать положенную мне порцию и пайку беспамятливого Мельниченко, выходить после сытного обеда во двор и вместе с беспризорниками-воробьями летать от одной лавочки к другой. Скажет: хватит, брат, собери свои манатки и кати отсюда – вернусь с легким сердцем к Зойке, к Левке, к Бахыту, к его ишаку-меланхолику, в мектеп к нашей Мамлакат…
Но мама… Я чувствовал, что ей не все равно, какое решение примет Нудель. Очень уж ей тут нравилось – куда больше, чем в колхозе. Для нее возвращение туда, пусть и со здоровым сыном, было, конечно, наказанием. Не зря же она не раз всерьез меня уверяла, что отсюда, из этого задыхающегося от пыли, немощеного, загаженного ишаками Джувалинска до нашей родины – до Йонавы намного ближе, чем от степного нурсултановского царства.
– Если еврея никто дубьем и вилами не гонит оттуда, где ему хорошо, он не должен рыпаться, а должен тихо сидеть на месте. Ты, что, по Кайербеку соскучился? – вопрошала мама.
Нудель нас ни дубьем, ни вилами не гнал, но и оставаться дальше – не позволил. Госпиталь трещал от наплыва раненых, а девать их было некуда, хоть по двое укладывай на одной койке.
Все мои сомнения рассеялись, когда Лазарь Моисеевич вошел в нашу палату один, без обычной свиты – сестры Надии и начальника хирургического отделения майора Покутнева.
– Как поживаешь, учитель? – бросил он и, не очень нуждаясь в моем ответе, направился к Мельниченко, откинул байковое одеяло, пощупал живот и голые, с крупными, как развесные гирьки, пальцами, ноги украинца, тяжело вздохнул и снова обратился ко мне: – Как я понимаю, живешь отлично. Лучше Петра.
– Лучше, – подтвердил я.
– Это и по лицу твоему видно, и по последнему рентгеновскому снимку.
Лазарь Моисеевич был гладко, до синевы, выбрит, от него пахло каким-то душистым одеколоном – не то сиренью, не то черемухой, и от этого благовония хрипы Мельниченко казались еще страшней и зловещей. Впервые за полтора месяца мне вдруг захотелось, чтобы Нудель скорей ушел, захотелось настежь распахнуть окно, чтобы со двора в палату хлынул дух жизни – запахи кухни, догнивающих листьев, дешевой махорки, солдатской мочи, но Нудель как нарочно не спешил. Он игриво ерошил мои дикарские лохмы, хлопал по плечу, пока, наконец, не сказал, ради чего и явился.
– Твои легкие в полном порядке. С чем я тебя и поздравляю.
Я сразу понял, куда он клонит.
– Видать, не суждено отступнику до конца выучить язык деда. – Лазарь Моисеевич помолчал, запахнул халат и, погрустнев, добавил: – Спасибо за уроки. Как-никак, а душу я в свой родничок окунул…
– Вам спасибо.
– А мне-то за что? Картошка и капуста казахские, таблетки и тушенка американские… – Нудель щелкнул меня по носу и, как бы извиняясь за вынужденное прощание, сказал: – Все, что мог, я для тебя, парень, сделал. Кто-то на меня даже в округ успел пожаловаться, что вместо героев-фронтовиков я пацанят-евреев принимаю. Так-то… как будто евреи – не люди… Ясно?
– Да, – сказал я, хотя и представления не имел о том, что такое округ, и кто посмел на Лазаря Моисеевича пожаловаться.
– Все, что мог, сделал, – повторил он. – Больше не могу – в коридоре раненые штабелями лежат. Так что не гневайтесь. Чтобы тебя по дороге сквозняками не прохватило, я насчет транспорта что-нибудь придумаю.
И придумал – нашел оказию. Прямо в «Тонкарес» на расследование какого-то мокрого дела через денька два отправлялся милицейский газик, а Нудель был с этими следователями знаком – резался по выходным в карты.
– Ребята надежные, довезут в целости и сохранности, – подсаживая нас в машину, заверил Лазарь Моисеевич и, не чинясь при следователях, выдохнул: – Зайт мир гезунт!
– Зайт эйх гезунт[7], – за себя и за маму ответил я.
Допотопный газик с крытым брезентовым верхом и охрипшим от старости мотором вылетел из Джувалинска и заметался по степи, как застигнутый лучом прожектора таракан. От тряски мама то и дело картинно хваталась за сердце и громко ойкала, пытаясь этим ойканьем усовестить лихача и принудить, чтобы тот хотя бы время от времени сбавлял эту сумасшедшую скорость. Но водитель, словно ничего не слышал, яростно крутил баранку, объезжая воронки с мутной дождевой водой и узловатые, капканами торчащие из-под земли корневища. Одетый в поношенную милицейскую шинель, он курил одну вонючую папиросу за другой и время от времени поглядывал на сослуживца, дремавшего в дыму на переднем сиденье – оба они были друг на друга похожи, как близнецы, и различить их можно было только по несвежим звездам на погонах: четырем у начальника и двум у подчиненного-шофера.
– Ты, Степаныч, хоть дорогу туда помнишь? – давясь от едкого дыма, сквозь дрему полюбопытствовал старший по званию, когда мы отмахали большой кусок по степи.
– Часом раньше, часом позже – все равно прибудем, товарищ капитан. Не заблудимся. А заблудимся, тоже не беда. Дело, скажу вам, гиблое. Свидетели – никудышные. Ишак да беркут. Из них, будь даже Вышинским, ничего не выжмешь. Да и убитому уже не до истины. – Степаныч повернул ко мне свою вонючую папиросу и, затянувшись, как бы прожег дотлевающим в гильзе огоньком: – Мальчик, ты, что, выпасть захотел? А ну-ка отодвинься от дверцы!
Мама обняла меня и по-еврейски шепотом спросила, о чем этот военный с таким пылом говорил, как будто учуяла что-то неладное. У меня не было никакого желания расстраивать ее – она и без того была подавлена отъездом из госпиталя, – но скрывать от нее то, что я услышал, и что обожгло меня страшной догадкой, я не мог – так и подмывало с кем-нибудь поделиться, чтобы как-то приглушить тревогу.
– Он говорит, что в нашем кишлаке кого-то убили… – объяснил я и осекся. Про никудышных свидетелей – ишака и беркута, из которых ничего не выжмешь, я, конечно, умолчал. Мало ли ишаков и беркутов в «Тонкаресе», да и убитый – не обязательно Бахыт.
– Господи, куда мы едем? За что нам такая кара?
Газик качнуло в сторону, маму подбросило вверх, она потеряла равновесие и навалилась на меня всем телом. Когда я выбрался из-под нее, меня обдало холодом – задул с присвистом северный ветер, пошел косой дождь со снегом, впереди почти ничего не было видно, дорога как бы сжалась в один клубок. Облипая обильной грязью, колеса под завывание мотора, казалось, крутились вхолостую.
Все в газике похоронно молчали. Только шум дождя, скрип дворников на лобовом стекле и свирепое попыхивание папиросой нарушали тишину. Я прильнул к маме, радуясь тому, что она ни о чем меня больше не спрашивает и не ойкает. Ответ на ее скорбный вопрос «Куда мы едем?» как бы напрашивался сам собой – в колхоз «Тонкарес», но мама допытывалась у Всевышнего о чем-то другом, более существенном и неотложном. Кто же спрашивает у Бога о том, что и без Него прекрасно знает. Чем больше я думал об этом, тем сильней у меня щемило сердце. В самом деле, куда и зачем мы все едем – и я с мамой, и Анна Пантелеймоновна с Зойкой, и Розалия Соломоновна с Левкой, и наша Мамлакат, и старый охотник Бахыт, если он жив-здоров, и блаженный Арон Ицикович? Куда? Кто направляет наши шаги и что, кроме общего несчастья, объединяет нас всех? Может, и спрашивать не надо, чтобы не остановиться, не упасть, не проклясть друг друга и дорогу?
Машина въехала в кишлак пополудни и, призывно посигналив, высадила нас под окнами колхозной конторы. Угрюмый, с заплывшими от бессонницы или браги глазами, в жилете, подбитом овечьей шерстью, председатель Нурсултан, видно, заранее оповещенный о приезде следователей, вышел во двор, сухо, словно не было и в помине ни расправы, ни госпиталя, поздоровался с нами и быстро провел гостей внутрь. Озадаченные его сухостью, мы еще минуту-другую потоптались под окнами в надежде на то, что нас увидит Анна Пантелеймоновна, и, не оглядываясь, зашагали к дому на околице.
Когда мы подошли совсем близко, то вдруг спохватились, что у нас нет ключа. На двери висел тяжелый, тронутый ржавчиной замок, окна были занавешены приданым Анны Пантелеймоновны – вышитыми занавесочками, на которых чистила перышки стайка красногрудых новохоперских снегирей; возле пустой конуры валялась мокрая цепь с потертым кожаным ошейником, который Рыжик носил, как награду, но самой дворняги нигде не было видно.
– Рыжик! – позвал я.
Конура не отозвалась приветливым лаем, а дохнула на нас бедовым безмолвием и темнотой.
– Околел наш Рыжик, – сказала мама. – Это, зунеле, дурной знак.
Всюду ей чудились дурные знаки. Послушать ее – вся жизнь со дня рождения была для нее таким знаком.
– Рыжик! – не сдавался я и вдруг услышал знакомый вопль.
– Иа! Иа! Иа!
С соседнего подворья к нашей хате мелкой рысью бежал отощавший и продрогший ишак-меланхолик Бахыта.
Не забыл, узнал по голосу, подумал я с запретной радостью и протянул ему навстречу руку.
– Пшел вон! – замахнулась на него мама, когда тот приблизился вплотную.
Ишак был весь утыкан репейными колючками, давно, видно, не кормлен и не поен, бока у него впали, зрачки нагноились, шерсть на крупе облезла. Нуждаясь в сочувствии, он удивленно и просительно смотрел на меня, норовя лизнуть протянутую руку, и мотал своей миловидной, не изнуренной надеждами головой.
– Пшел! – возмутилась мама.
– Ну, зачем ты его гонишь? Разве он не такой же, как мы? Живет у чужих… Ржет, когда голодно и тоскливо…
Мама съежилась и, застегивая на все пуговицы подаренную Хариной шерстяную кофту, сказала:
– Скорей бы под крышу. Как бы ты на этом ветру не простыл… Может, зайдем к Розалии Соломоновне?
Ветер и впрямь раздухарился – его порывы налетали вместе со студеными каплями дождя, которые больно хлестали по лицу.
Все вокруг – и неприкаянные, пегие от грязи куры, которые, недовольно кудахтая, бродили по Бахытовому подворью, и мокнущие под дождем на веревке связки драгоценного табака-самосада, и распахнутые настежь двери хлева, и побирушка-ишак – усиливало прежние подозрения. Может, они, эти подозрения, как раз и удерживали нас от того, чтобы тут же постучаться к Розалии Соломоновне. Войти в хату – дело немудреное, но если подозрения насчет убийства Бахыта подтвердятся, кто поручится, что следом за нами сюда не нагрянут эти дознаватели и не начнут из нас вытряхивать душу – что знаете, что видели, что слышали?
7
И вы будьте здоровы! (идиш).