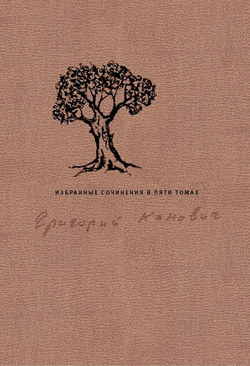Читать книгу Избранные сочинения в пяти томах. Том 4 - Григорий Канович - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Лики во тьме
V
ОглавлениеОсень угасала, как поленья в крестьянской печи, – еще искрясь, но уже не полыхая. Все смелей к затаившемуся кишлаку подкрадывалась истосковавшаяся по привольному буйству зима. Все нещадней ветры, выкупанные в ледяных водах горных рек и остывшие на снежных вершинах, трепали иссохшиеся ставни и крыши.
Приближение второй нашей зимы в Советском Союзе не радовало ни нас, ни нашу покровительницу Анну Пантелеймоновну. С Ярославщины, из бедной деревеньки, в степной неведомый Казахстан мы привезли с собой на двоих одну протертую фуфайку с рваной подкладкой, из-под которой, как цыплята из-под нахохлившейся наседки, выглядывали пушистые клочья пожелтевшей ваты; замызганную шапку-ушанку с оторванным ухом и белую, истончившуюся от старости шаль, которая даже дома не грела. Пригодной же для сугробов и морозов обуви у нас и вовсе не было, но там особой нужды в ней мы, собственно, и не испытывали: всю долгую русскую зиму сидели у нещедрой на тепло печи и согревались вечным еврейским самогоном – надеждами.
– Какой у тебя, Гриша, размер ноги? – прислушиваясь к завыванию ветра за окном, в один из вечеров поинтересовалась хозяйка.
– Какой у меня размер, мама? – отпасовал я вопрос моей родительнице.
Мама смешалась. В моих торопливых переводах с привычного идиш на бескрайний, как здешняя степь, русский то и дело зияли дыры, которые ей так и не удавалось до конца залатать.
– По-моему, тридцать девятый. А что?
– У Вани был сорок третий, – выдохнула Харина и скрылась за ширмой, отделявшей ее часть гостиной от нашей.
Пока хозяйка за тонкой занавеской что-то передвигала, вытаскивала, переворачивала, ставила на прежнее место, мама осыпала меня шепотками, пытаясь угадать, что неугомонная Анна Пантелеймоновна надумала на сей раз.
Долго гадать не пришлось. Харина вскоре вернулась, держа под мышками два сапога.
– А ну-ка примерь, – сказала она и протянула сперва левый сапог, потом правый – оба почти новые, с высокими голенищами, на толстой подошве со следами въевшейся в кожу довоенной дорожной грязи…
Я застыл.
– Ты, что, по-русски не понимаешь? Примерь и разок-другой пройдись-ка в них по комнате… Чего зря офицерскому добру пропадать…
Я быстро снял свои стоптанные летние ботинки с выцветшими, похожими на дохлых дождевых червей шнурками, и, сунув ноги в Ивановы сапоги, попробовал пройтись в них от стола до окна, выходившего прямо во двор Бахыта, но после первых же шагов споткнулся и растянулся во весь рост на полу.
– Великоваты, конечно, – не очень огорчилась из-за моего падения Харина. – Но с портянками сойдут. Все же лучше, чем ничего… Зиму нынче обещают лютую да голодную…
Хорошо еще – Зойка спала. Увидела бы меня в этих сапожищах и подняла бы, наверно, на смех. А, может, и не подняла бы – знает ведь, чьи эти сапоги…
– С обмотками сойдут. Походишь-походишь и привыкнешь, Гриша… – промолвила тетя Аня. – Через год и ноги подрастут. Да и мне самой приятно… хоть изредка скрип знакомый услышу…
Мама слушала ее с опаской, ждала, когда Харина направится к буфету и достанет заветную бутылку, но Анна Пантелеймоновна что-то еще невнятно пробормотала – то ли пожелала спокойной ночи, то ли посоветовала больше керосину в лампе не жечь – и скрылась за ширмой.
В ту ночь я долго не мог уснуть. Лежал и, не отрываясь, смотрел на сапоги Ивана Харина. Они чернели в изножье раздрызганного дивана, как двое приставленных к моему ложу часовых, и сквозь наплывающий сон до изнуренного темнотой и упорным бдением слуха доносился их сухой и суровый скрип, как будто кто-то за окнами ходил по трескучему, как хворост, снегу. Скрип то набирал силу, то затихал, и в этих тихих промежутках все вдруг отслаивалось от меня – и насытившийся верноподданным лаем Рыжик, и подворье угрюмого Бахыта с его телохранителем-беркутом, и взъерошенные, как кустарник на юру, куры, и меланхолик-ишак, и мектеп с Гюльнарой Садыковной и Мамлакат на коленях Сталина; куда-то проваливались война, долгая дорога по чужой, выстуженной горем стране, битком набитые беженцами товарняки. Ко мне возвращалось прошлое – под байковое одеяло забирались выросшие в войлочной темноте мои деревья, воскресали мои люди, мои животные, снова рассветало моё небо, где обитал мой Бог.
Всевышний и впрямь не раз являлся мне в моих сновидениях. Я расспрашивал Его, как еврей еврея, что произошло в нашей Йонаве за время нашего отсутствия. В сопровождении ангелов, которые смахивали на моих бывших однокашников, Он водил меня по небосводу, как по местечку, и я, как зачарованный, входил за Ним в пустоту – в пустую синагогу, в пустую школу, в ворота пустого кладбища.
– Где же все? – спрашивал я, поглядывая в страхе на ангелов.
– Кроме тебя, все тут, – отвечал Бог. – Ты, что, своих не узнаешь? Ангел Ицик, ангел Хаим, ангел Тевье, твой двоюродный брат – ангел Моше…
Я бормотал во сне что-то несуразное, метался, и мама в испуге будила меня, ощупывала, гладила.
– Что тебе, кецеле, снилось? – устраивала она назавтра допрос. – Ты так метался, так стонал…
– Да всякая чепуха…
– Зойка, наверно, – пыталась она обратить все в шутку.
Видно, сны про Зойку страшили ее больше, чем про Господа Бога. Мама меня ревновала к ней и молила небеса, чтобы поскорей кончилась эта война. Если это страшное побоище затянется на годы, ее Гиршеле может сделать непростительную ошибку – жениться с бухты-барахты, не так, как нужно. А нужно – правильно. Не на богатой, а на своей. Возьмешь в жены иноверку – всю жизнь жалеть будешь. Весь мир, мол, обойди, нигде лучше и преданней жены, чем еврейка, не найдешь. Она за тобой без колебаний хоть на каторгу, хоть на казнь пойдет.
Каторга и казни меня, конечно, не прельщали, но я не перечил и, чтобы рассеять напрасные подозрения мамы, поклялся, что если когда-нибудь женюсь, то не с бухты-барахты, а правильно.
– Чем плоха Белла Варшавская? – заглядывая на годы вперед и сияя от обещанного мной счастья, – сватала меня мама. – Девочка из хорошей еврейской семьи… Круглая отличница… Скромница… Ну и что, что она из Борисова? Мы ведь тоже не из Парижа…
Скажи ей, что Зойка мне ни разу не снилась, мама ни за что не поверила бы.
Зойка снилась Гиндину.
– Каждую ночь мне девчонки снятся, – сам признался он на Бахытовом пустыре, где от нечего делать мы встречались по нескольку раз на дню и поверяли друг другу свои незамысловатые мальчишеские тайны. – Меня к ним, Гирш, как магнитом, тянет. Вчера, например, мы с Зойкой в озере купались. Голенькие…
– Голенькие?! – задохнулся я от его слов.
– А что тут такого… Голышом для здоровья полезней. Вокруг ни души… Только камыши шумят… – И Левка вдруг прополоскал горло песней: – «Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была, одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра…» Барахтаемся, значит, в воде, брызгаемся вовсю, потом, мокрехонькие, выбегаем на бережок… С меня вода течет… С Зойки течет… Смотрю на нее – бляха-муха: соски, как две большие виноградины, торчат. Скольжу взглядом вниз – родинки целым выводком… На шее, на животе, над пупком…
Соски торчат… родинки над пупком… Врет паршивец, утешил я себя. Наплел с три короба, наслаждается моей растерянностью, ждет-не дождется, когда от его лихого, безоглядного вранья у меня в груди сердце, как витютень в воздухе, перекувырнется.
– Погрелись чуток на солнышке, – не унимался Гиндин, – и давай друг друга руками, как полотенцем, вытирать досуха.
– В каком же это вы озере купались, когда вокруг одни высохшие арыки с ящерицами? – попытался я его складной и безудержной лжи соорудить кое-какую запруду.
– Какие арыки? Какие ящерицы? В моих снах имеется все, что душе угодно. Озера, реки, горы. В них, как по Невскому, разгуливают одни писаные красоточки, которые подмигивают мне и согласны со мной дружить. Я, Гирш, всем девчонкам люб. Во сне и наяву. Всюду. И в этом вонючем кишлаке, и в каждом городе. Нравлюсь я и твоей Зойке, и диковатой козочке Галие с ее черными колокольцами-косичками… И Белле Варшавской, у которой – обрати внимание – губки, как подушечки с шоколадной начинкой, пухленькие, вкусненькие…
Когда Левка входил в раж, его нельзя было остановить. Чтобы окончательно добить противника, он придумывал все новые и новые происшествия и сцены, в которых непременно представал как всеобщий любимец и победитель.
– На прошлой неделе… в другом сне… – продолжал он с прежней самоуверенностью и пылом, – мы с Зойкой в Ленинград махнули. Я ей, конечно, сначала показал, где мы до войны жили. Поднялись в лифте на пятый этаж, осмотрели наши картины, мамин рояль – «Стенвей», папин пилотский шлем, мою комнату. Потом я взял Зойку под руку и потащил в Русский музей… на передвижников. А когда стемнело, повел в кафе «Ландыш», что на Невском, и мы там целый вечер мороженое наворачивали. Пломбир, «Арктику». Нигде в мире нет такого мороженого, как в Ленинграде… Не ешь, а как будто целуешься… Ты, Гирш, хоть раз в жизни с девчонкой уже того… целовался?
Скажешь Гиндину правду – плохо, соврешь – плохо: только дай повод, и он над тобой тут же расправу устроит – как беркут над глупым зайчишкой.
– У нас в Йонаве мороженое тоже вкусное… с фисташками, – как мог, увертывался я от проигрыша.
– Эх, фисташка ты, фисташка! – усмехнулся Гиндин и по-дружески щелкнул меня по носу. – Сразу видно – не целовался. А я первый раз в одиннадцать лет Вальку Нагорную прижал в лифте и чмок в губы… Это было между пятым и седьмым этажом… Как сегодня помню…
Привирал ли он или не привирал, но его притягательный, нашпигованный захватывающими подробностями вымысел всегда одолевал мою непривлекательную правду, а его нарядная, броская ложь брала верх над моей закоснелой верой. Ко всем его выходкам я относился снисходительно, с притворным вниманием; мне и в голову не приходило ссориться из-за них; я просто жалел его, и моя жалость была выше всяких правд и обид. Хотя Левка и подтрунивал надо мной, порой грубо дразнил «иностранцем-засранцем», потешался над моим невежеством, но своей колючей дружбой-неприязнью он все-таки помогал мне выстоять и не сломаться. Может, потому меня так пугала непонятная болезнь Розалии Соломоновны: если Гиндина, не дай бог, умрет, Левка ни за что в этом кишлаке не останется, удерет после похорон от Бахыта куда глаза глядят – в Ташкент или Алма-Ату, или даже на фронт, поближе к Ленинграду, где он в кафе «Ландыш» наворачивал лучшее в мире мороженое – пломбир, «Арктику»…
Левка до наступления зимы и впрямь собирался податься в город Арысь, славившийся своими торговыми рядами и базарами. Бахыт обещал ему заплатить не только за рубку табака, но и за провоз на рынок своего ходкого и дорогого товара, надеясь на то, что пацана-беспризорника милиция ни в чем не заподозрит и трясти не будет, а, если и обнаружит у него товар, то снимет с поезда, конфискует мешок махры, а его из жалости отпустит с миром.
Левка и меня подбивал. Но я наотрез отказался.
– Боишься, Гирш? – уколол он меня.
– Боюсь… Но не за себя. За маму. Она этого не вынесет.
– А я со своей договорюсь, я для нее в Арысе, может быть, какие-нибудь лекарства раздобуду. От ваших свекольников с чесночком никакого толку… только в нужник поспевай… Бахыт говорит, что там аптек больше, чем столовых. На вокзале и прямо на базаре… В Арысе все есть… только денежки выкладывай…
Левка, наверно, и отправился бы с Бахытом, но Розалия Соломоновна ни на какие уступки не шла – не захотела остаться в выстуженной хате наедине с беркутом, который был для нее олицетворением не вольного паренья в небе, не полета, а смерти.
И Левка не посмел ее ослушаться.
Не поехал в Арысь и соскучившийся по лишнему рублю Бахыт. И не потому, что вовремя не успел приготовить товар – весь табак нарубить (если квартирант не согласится пойти в рубщики, можно другого голодранца нанять), а потому, что нагрянувший внезапно в отцовскую хату Кайербек посоветовал отцу на время отложить свою поездку. Пресекая все вопросы, объездчик, исполнявший в колхозе и обязанности сыщика и дознавателя, попросил его и Левку никуда из кишлака не отлучаться. Сиплым, кладбищенским голосом он во всеуслышание объявил, что бесследно пропали Гюльнара Садыковна и ее муженек Шамиль – ускакали якобы позавчера в степь, и домой, в колхоз имени Первого съезда комсомола, до сих пор не вернулись. Дело, дескать, серьезное, дорог каждый свидетель. Из района может приехать начальство и всех, кто их хоть раз перед исчезновением видел, с пристрастием допросить.
– Пока о пропавших ни слуху ни духу, – борясь с икотой, сказал Кайербек. – Даже рысака, и того не могут найти.
– Беда. Большая беда! Такая красивая пара… Бахыт завтра в степь поедет… искать будет… – сложив по древнему обычаю ладони, произнес старый охотник и вывел сына в сени.
Слышно было, как они оба о чем-то жарко и сбивчиво шепчутся по-казахски. Но их шепот если кто и понимал, то только невозмутимый, выросший на степном просторе и вышколенный в здешних краях хозяйский беркут.
Исчезновение Гюльнары Садыковны поразило всех, но больше всего расстроилась мама. Для нее оно было как бы предвестьем какой-то личной беды, скорой и неотвратимой – безработицы, мобилизации в трудармию, переселения в еще большую глушь.
– Сама не знаю, что делать – выходить на работу или нет? – сетовала она, возвращаясь из пустующей школы. – В классах ни души. В учительской и в красном уголке – никого. Только портрет во всю стену. Смотрит на мои рваные туфли, на метлу и улыбается в усы…
– Ну и пусть улыбается, – сказал я.
– Я не против, но до чего же он, Гиршеле, похож на хромоногого Менаше!
– На Менаше?
– На нашего дальнего родича… могильщика… Брови, нос, усы… Тип-топ… От Менаше всегда могильной глиной пахло.
– Теть Жень, – вдруг вмешалась в разговор Зойка, утомившаяся от нашей тарабарщины, – чайку вам налить?
– Налей.
– Лады, – обрадовалась Зойка. – Все пить будем.
– Так что же, Гиршеле, делать? – снова спросила меня мама. – Выходит – и у меня каникулы… – Она помолчала, провела рукой по волосам, словно надеялась смахнуть с них залежавшийся иней. – Ведь убивают не только на войне. Человек всюду приводит с собой смерть.
Зойка принесла чай, заваренный сушеной морковкой, которая заменяла и сахар, и мы молча, время от времени поглядывая друг на друга, как на поминках, принялись прихлебывать горячую, мутную жидкость. Никому из нас ни о чем не хотелось говорить – видно, слова о том, что Гюльнара Садыковна вернется жива и невредима, только отпугивали и умаляли надежду. Но я почему-то все-таки был уверен, что не сегодня-завтра снова увижу привязанного к коновязи отполированного рысака Шамиля, и в класс легкой, подпрыгивающей походкой снова вбежит Гюльнара Садыковна, которая, никого не предупредив, денек-другой решила гульнуть со своим, как выражалась Анна Пантелеймоновна, миленком в Джувалинске, сходить на толкучку, где у эвакуированных можно по дешевке купить всякую всячину – невиданные в этих краях платья, блузки, шляпки, туфельки, янтарные бусы и браслеты, а, может, она махнула с ненаглядным еще дальше – в Джамбул или Чимкент. Напрасно мама так волнуется за свою метлу и ведерко, а Зойка тихо радуется – не пройдет и недели, как под окнами школы победоносно заржет Шамилев рысак, мектеп наполнится учениками, и мама снова примется драить вождя и полы. Хорошо еще, если Гюльнара Садыковна не сразу вызовет меня к доске и не влепит в классный журнал двойку за невыученный стишок – «От Сулеймана вам привет…»
– Может, их волки в степи загрызли? – зевнув, предположила Зойка, которую от долгого молчания всегда клонило ко сну. – В прошлом году они чуть Бахыта не задрали. Говорят, если бы не беркут, ему бы несдобровать. Шрам у него под глазом видели?
– Могли бы и задрать, – пробормотал я, перейдя на идиш.
– Что ты, Гриша, сказал? – встрепенулась Зойка.
– Я сказал: видели.
– А почему у тебя так длинно вышло?
– По-нашему все длинно получается. Такой уж наш язык.
– Ну да, – уличила меня Зойка и прикрыла ладошкой рот от сладкой и томной зевоты. – У Гиндина врать научился!
Наше чаепитие оборвала вернувшаяся из конторы Харина. Все дружно уставились на нее, но она как нарочно не спешила вытряхивать на стол новости, а устало поплелась к буфету, извлекла оттуда томившуюся в неволе недопитую бутылку, подвинула к себе Зойкин стакан из-под чая, налила водки и без закуски выпила.
– Все повторяется, – промолвила хозяйка, вытерев тыльной стороной ладони накрашенные губы (два тюбика губной помады вместе с призом – кожаным мячом, который мы с Левкой гоняли на Бахытовом пустыре, привез когда-то в кишлак из Алма-Аты удачливый спортсмен Иван Харин, правый защитник сельской футбольной команды «Колхозник»). – Прикатили сволочи с утра пораньше, запихали человека в машину и увезли… А бедная Гюльнара прыг на рысака и вдогонку… только вряд ли его уже догонит… – Анна Пантелеймоновна скрестила руки, а затем закинула их за голову, чтобы избежать искушения – еще раз потянуться к освобожденной из темницы бутылке. – Там, у вас, в Литве, тоже так – хватают среди бела дня невинного человека и увозят на годы?
К моему удивлению, мама поняла вопрос без перевода и замотала головой – видно, ей не хотелось сравнивать арестованного Шамиля со своим братом Шмуле-большевиком, которого задолго до войны за бунтарство полицейские увели на тюремные нары.
– Спроси у нее, как же теперь со школой, – тронула она меня за локоть.
– Пора, Женечка, самой научиться спрашивать, – не дожидаясь, пока я переведу мамины слова, пробурчала Харина. – Ты что думаешь, твой сынок всю жизнь за тобой будет толмачом ходить? Или ждешь, чтобы тебе за каждое русское слово трудодень начисляли?
Зойка подозрительно засопела, боясь, что Анна Пантелеймоновна снова плеснет в стакан водки, да и мы с мамой скуксились от ее гневливости и от неожиданного приказа:
– Спать, бесово отродье, спать! Завтра с утра в школу!
– В школу? Ну а как же, мам, без Гюльнары Садыковны?.. – скатилось у Зойки с овеянных зевками уст.
– Пока не вернется Гюльнара, вас будет учить Арон из бухгалтерии. Других ученых в колхозе нема. Арон Ицикович вас хоть правильно считать научит. До войны через его руки в Вильнюсе в Еврейском банке миллионы прошли…
Миллионы на Зойку, видно, не произвели впечатления. Она зашуршала тапочками и шмыгнула, как мышь, за ширму.
Улегся и я.
Напрягая слух, я прислушивался к разговору хозяйки с неожиданно приободрившейся мамой, которой не хотелось остаться без работы, и до меня, как капли летнего дождя-ленивца, долетали обрывки слов; я старался их склеить, слепить воедино, чтобы ответить на вопрос, за что же среди бела дня взяли и неизвестно куда увезли чеченца Шамиля, но ответ всякий раз ускользал от меня, и я, вместо того чтобы сдаться и провалиться в желанный сон, продолжал с непонятным упорством ловить отголоски чужой беды, не в силах постичь, что же натворил муж нашей Гюльнары Садыковны. Измученный догадками, я незаметно для себя перекинулся с Шамиля на Арона из бухгалтерии, которого никак не мог представить с классным журналом под мышкой.
– За что его? – проснувшись раньше, чем обычно, спросил я у мамы.
– Кого? – натягивая на распухшие ноги толстые чулки, неохотно переспросила она.
– Шамиля. Разве хозяйка не сказала?
– Нет. Она сидела и пила водку.
– И ничего не говорила?
Мама слушала молча, и от ее безответного, угрюмого молчания у меня на душе становилось еще горше.
– Говорила, говорила… Но я не поняла… Я тут, Гиршеле, вообще ничего не понимаю… Понимаю только, что кого ни возьми, каждому плохо. И людям, и собакам, и птицам… Даже ветру. Слышишь, как он жалобно воет за окном? Что это, господи, за страна, где всем… ну просто всем плохо?.. Полежишь еще или пойдем вместе?..
– Вместе.
Я быстро оделся и, не дождавшись Зойки, под дружелюбный лай очнувшегося на мгновение от своей старости харинского стража – подслеповатого Рыжика, пустился за мамой в школу.
Кроме меня и опоздавшей Зойки, не вставая с мест, нового учителя Арона Ициковича Гринблата нестройным, насмешливым хором поприветствовали смиренная Белла Варшавская, вечный бунтарь Левка, появившийся в классе после долгого отсутствия, и с полдюжины недовольных заменой Гюльнары Садыковны казашат и казашек.
Гринблат был довольно высокий, благообразный мужчина, которого худоба и взятое седой, аккуратной бородкой в круглые скобки продолговатое лицо делали моложе шестидесяти. Он носил старомодный потертый пиджак с большими, как игральные биты, костяными пуговицами; широкие, колыхавшиеся при ходьбе, точно парус на ветру, штаны, из-под которых робко, чуть ли не воровато выглядывали ботинки с замшевым верхом, которые, по рассказу Анны Пантелеймоновны, достались Арону Ициковичу от другого беженца, умиравшего от заворота кишок в затхлой теплушке и успевшего перед смертью бросить с нар: «Господь меня и босого примет…»
На Арона Ициковича учительский жребий пал не случайно. Как рассказывала Харина, Гринблат владел уймой языков; изучал не то в Германии, не то в Швейцарии у тамошних профессоров финансовое дело; с удивительной легкостью, как дважды два, умножал и делил в уме четырехзначные числа.
На первый урок новый учитель пришел без портфеля и учебников, без журнала и без мелка, усталым взглядом окинул класс, переглянулся со Сталиным на стене, подтянул свои широченные штаны, сползавшие с его худых, утончившихся от беженского харча ягодиц; поправил на макушке непоседу-ермолку (Харина все время допытывалась у мамы, почему Арон Ицикович так дорожит припеченной обуглившимся блинчиком к мудрой голове черной, замусоленной шапочкой и никогда ее не снимает); покашлял в сморщенный, не бойцовский кулак; вытер платком толстые, слегка вывернутые губы и, поразив всех присутствующих странным обращением «господа», выразил глубокое сожаление по поводу исчезновения Гюльнары Садыковны и начал урок с длинного и витиеватого извинения. Он просил прощения за то, что, не будучи педагогом, осмеливается (не по собственной воле, а по просьбе высокочтимого председателя колхоза Нурсултана) занять «господ учеников» своими рассказами об исключительно важном значении счета или, как он по-ученому выражался, калькуляции, и заменить на короткое время многоуважаемую «госпожу директрису», которая обязательно вернется в школу, ибо справедливость, господа, даже если ее умертвить и зарыть в могилу, рано или поздно воскреснет и восторжествует над кривдой. Под шумные одобрительные выкрики «господ учеников» он милостиво, против всех школьных правил, разрешил каждому, кто только пожелает, свободно уходить с уроков или на них вовсе не приходить, поскольку когда-то сам в университете далекого и прекрасного города Цюриха из-за недостатка в средствах был вольнослушателем.
– В оковах или под свист бича, господа, достичь в чем-то совершенства невозможно. Как говорили мои учителя, не ждите Моисея, а выходите из неволи самостоятельно, чтобы не кружить рабами сорок лет по пустыне. Без свободы нет знания, а без знания нет свободы.
Вряд ли кого-нибудь из учеников интересовало, кто такой Моисей и что такое египетская неволя, но Арон Ицикович совершенно из-за этого не переживал, не важно, понимает ли кто-нибудь его или не понимает. Казалось, все, что он тихим, бесстрастным голосом говорил, он говорил не классу, а самому себе, давно соскучившемуся за бухгалтерскими счетами в колхозной конторе по другому Гринблату, по тому, каким он был много лет назад в далеком и прекрасном городе Цюрихе, который он уже никогда – ни на этом, ни на том свете – не увидит. В школе Арон Ицикович чувствовал себя иначе, чем в колхозной бухгалтерии, заваленной дремучими бумагами с бесконечными отчетами о прошлогодних надоях молока, об урожае яровых и о росте поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Тут никто за ним не следил, не стеснял его свободы, не ограничивал подогреваемых лихолетьем воспоминаний, придававших какой-то отчаянный и яростный блеск его умаявшимся, близоруким глазам, спрятавшимся от мира за толстыми стеклами очков в роговой оправе. Ободренный вниманием учеников к своим мудреным и замысловатым рассказам, которые воспринимались ими как сказки (Арона Ициковича не терзал своими каверзными вопросами даже Левка, только негромко посмеивавшийся, когда тот обращался к классу по старинке – «господа»), Гринблат упоенно втолковывал своим подопечным, какой таинственной и волшебной силой обладают цифры, которые одних возносят на вершины славы и могущества, а других низвергают в пропасть нищеты и отчаяния. Для вящей убедительности Арон Ицикович, бывало, прибегал к неожиданным сравнениям – единицу сравнивал с одиноким солдатом на посту, двойку – с горделивым селезнем, тройку – с недоеденным в спешке кренделем. Нередко, увлекшись этими сравнениями, Гринблат пускался в посторонние, далекие от любимого предмета рассуждения о семи днях творения, об ангелах и серафимах, о вечной вражде народов и племен. Свою бойкую русскую речь новый учитель нет-нет да орошал шипучими польскими выражениями, отчего смысл сказанного, и без того утомительный, затемнялся, но никто из учеников добрейшему Арону Ициковичу и не думал за это пенять. С ним было легко и интересно, как с большой тряпичной куклой, которая, как ее ни дергай, как ни переворачивай с боку на бок или ни ставь с ног на голову, ни на кого не обидится.
На большой перемене Гринблат уходил за коновязь, туда, где исчезнувший Шамиль привязывал свою строптивую лошадь и где чуть поодаль ржавел брошенный трактор ЧТЗ с развороченными внутренностями и пустой кабиной; поворачивался лицом к востоку, к заснеженной горной гряде Ала-Тау; извлекал из-за пазухи книжицу в кожаном переплете и, медленно раскачиваясь, принимался что-то ревностно шептать своими вывернутыми губами.
– Я думал, что он ходит мочиться на трактор, а он, оказывается, своему Богу поклоны бьет… Молодец! Вокруг дерьмо, разруха, дикость, а он молится, – восхищался выследивший его Левка. – А ты, Гирш, умеешь молиться?
– Бабушка учила, но немцы помешали… надо было драпать, а не молиться.
– Какой же ты, к черту, еврей, если от своего Бога, как от немцев, драпаешь? – напустился на меня неверующий Гиндин. – Будь я евреем, обязательно научился бы молиться. А вдруг, как уверяет Арон Ицикович, Бог и в самом деле существует?
– Наверно, существует, – миролюбиво сказал я.
– Мало ли чего еще недавно ни для меня, ни для тебя не существовало, – воскликнул Левка, – и этот мектеп, и эта степь, и этот раздрызганный трактор… И вдруг в этом кишлаке появились и Гюльнара Садыковна с ее Шамилем, и Белла, и Бахыт, и ты, Гирш Батькович, и я, Лев Николаевич Гиндин…
Проучительствовал Арон Ицикович недолго. Встревоженный кишлак облетел слух о том, что по сведениям Нурсултана Абаевича (а к нему сведения стекались не откуда-нибудь, а с самого-самого верха, чуть ли не от Всевышнего), кто-то видел Гюльнару Садыковну возле райотдела энкавэдэ в Джувалинске. Значит, жива-здорова и скоро вернется.
– Слава Богу, слава Богу, – придя из школы, на чистейшем русском языке запричитала мама.
– Слава-то слава, – нахмурилась Харина. – Но одной вдовой в кишлаке станет больше. Кто знает, может она и вдовствовать долго не будет. Не сидеть же ей бобылкой и до старости ждать, когда ее ненаглядного выпустят. Это, милая, только в могилу в одиночку ложатся, а в постель…
Анна Пантелеймоновна зыркнула на меня, на Зойку и, недоговорив, распахнула окно во двор. В комнату с вершин Ала-Тау ворвался ошалелый ветер, пахнущий свежим снегом.
– Ей, сироте, когда-то Кайербека в мужья прочили, – сказала хозяйка. – Но Гюльнара уперлась, и ни в какую: «Скорей руки на себя наложу, чем замуж за нагайку!..» Вот я и думаю: не он ли, паскудник, из мести это все подстроил? Кайербек на все способен… Жалко Гюльнару… Всех баб жалко. На сотни километров вокруг ни одного стоящего мужика. Одни сморчки. Стыдно вымолвить – кобылицам на лугу завидуешь… – И засмеялась.
Засмеялась и мама, но от этого безутешного смеха, как от порывов высокогорного ветра, в комнате стало вдруг зябко. Хозяйка вобрала голову в плечи, словно та ей сильно мешала, и, забарабанив костяшками пальцев по столу, тихо процедила:
– Затопим-ка, Женечка, баньку и попаримся сегодня в охотку, отдубасим веничками друг дружку по всем местам – глядишь, плоть и уймется…
Я не вмешивался в их разговор, но внезапно, как стог сена из тумана, выплыли частокол на Бахытовом подворье; старый охотник с козьей ножкой во рту; жалкий, заискивающий Шамиль; молчаливый Левка, дожидающийся приговора лекаря и хироманта Иржи Кареловича Прохазки; отполированный рысак, бьющий копытом о землю, поросшую жесткой, негнущейся травой; спор про врагов народа… Неужели, мелькнуло у меня в голове, старик все рассказал Кайербеку? А Кайербек?..
– Пойдешь, Гриша, в водоносы! – вторглась в мои сумбурные раздумья хозяйка. – Воду всегда Ванюша носил – коромысла на плечи, и ать-два – к колодцу и в баньку, к колодцу и в баньку… Сколько ведер он на своем горбу перетаскал – целую реку!..
– Пойду, – сказал я, решив честно отработать за офицерские сапоги.
Весь вечер я послушно, даже с некоторым удовольствием, щекочущим самолюбие, таскал из колодца воду – правда, не по полному, до краев, ведру, как Иван Харин, а только по половинке. Когда Анна Пантелеймоновна и мама кончили мыться, я уже лежал в постели, но никак не мог уснуть. Впервые в жизни я, кажется, обиделся на Бога – обиделся за Розалию Соломоновну, почти прикованную к постели; за Гюльнару Садыковну, ставшую еще одной вдовой в кишлаке; за изгнанника-чеченца Шамиля; за бывшего служащего Виленского колониального банка Арона Ициковича Гринблата, день-деньской корпящего над дремучими колхозными бумагами; за погибшего в первые дни войны в Литве Ивана Харина; за моего отца, пропавшего без вести. Обида моя на Него росла, и я приходил в ужас при мысли, что вот-вот Он о ней узнает и сам на меня обидится. А как говорили в нашем местечке старики, на кого обидится Бог, тому не позавидуешь.
Сон все же одолел мою обиду, и я, банщик, проспал первый урок, но угрызений совести не испытывал. Хотя Гюльнару Садыковну и нашли невредимой в Джувалинске, до ее возвращения в классе еще верховодил добрейший Арон Ицикович, который никаких перекличек не проводил, а опоздавшим никогда замечаний не делал.
– Ну что я вам говорил? – протирая запотевшие очки и вдохновенно мигая от запрудившего зрачки света, обратился он на прощание к классу.
Все зашушукались, загалдели. Даже отличница Белла Варшавская, обычно запоминавшая всякую чепуху, не могла ответить на его вопрос. Да и кто мог бы на него ответить, если Гринблат за неполную неделю наговорил на уроках столько, что подгадать с ответом было просто невозможно.
Но тут своей догадливостью блеснул Левка:
– Вы говорили о справедливости, о том, что она всегда торжествует.
– Браво, господин Гиндин! Браво! Вы очень умный мальчик, – похвалил его изумленный Арон Ицикович. – Но по вашему тону я понял – вы сомневаетесь в этом. Так?
– Так, – признался Левка.
– Почему?
– Потому что ее на свете нет. Есть только несправедливость.
– Позвольте вам возразить. Если на свете есть несправедливость, то должна быть и ее противоположность. Как день и ночь, как свет и тьма. Разве ваша учительница не возвращается в школу? Возвращается! Даст бог, вернется и ее супруг. Курьерские поезда в Швейцарии, и те не всегда прибывают по расписанию – их приходится ждать, долго и терпеливо… Опаздывает, увы, и справедливость. Когда на годы, господа, когда на десятилетия, а когда и на целую жизнь. Но она все время в пути и все равно обязательно загудит… Ту-ту-ту… – затрубил Гринблат, водрузил очки на переносицу, подтянул сползающие штаны и, поклонившись всем, вышел из класса.
Назавтра после ухода из школы Гринблата в кишлак вернулась Гюльнара Садыковна. Она долго привязывала рысака к коновязи, гладила его по отполированному крупу и, привстав на цыпочки, что-то нашептывала ему в теплое и глубокое, как дупло, мохнатое ухо.
Когда Гюльнара Садыковна вошла в класс, все, словно сговорившись, встали.
– Садитесь, ребята!
Все ждали, с чего она начнет, но Гюльнара Садыковна стояла неподвижно у чистой, нетронутой мелком доски и, прищурившись, прислушивалась к предсмертному жужжанию мухи, не позаботившейся о своевременной зимовке и застрявшей на свою беду между оконными рамами.
– Ну, как вы тут без меня жили? Не скучали?
Класс молчал.
– Скучали. – Одинокий голос Беллы Варшавской упал в тишину, как лепесток водяной лилии на воду.
– И я скучала, – выдавила из себя Гюльнара Садыковна и добавила: – Не буду вас сегодня задерживать… Вы все свободны. Только Гришу и Леву Гиндина попрошу на минуточку задержаться.
Ни я, ни Левка никак не могли сообразить, о чем Гюльнара Садыковна собирается с нами говорить и, пока весь класс дружно штурмовал дверь в коридор, недоуменно переглядывались.
– Ребята, Шамиль говорил, что вы оба были с ним и Бахытом на подворье за два дня до того, как его забрали… Вы не помните, он там с Бахытом не поссорился?
– Я лично ничего не видел и не слышал, – пожал плечами Левка.
– А ты, Гриша? Может, что-то между ними произошло…
– Ничего не произошло. Они просто сперва поспорили. Про врагов народа… Потом помирились. Бахыт угостил его махоркой. А Шамиль пригласил его в клуб на танцы, чтобы он себе невесту выбрал…
– Понятно, понятно, – зачастила директриса, думая о чем-то своем, не подлежащем огласке. – Сперва Бахыт его махоркой угостил, потом…
И, словно решив что-то важное, бросилась во двор, отвязала буланого, вскочила в седло, пришпорила рысака и, стараясь не сбиться с рыси, умчалась в степь.