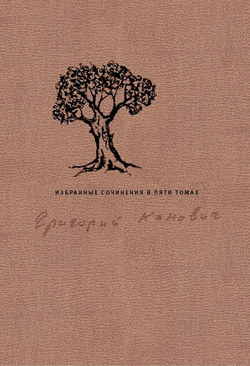Читать книгу Избранные сочинения в пяти томах. Том 4 - Григорий Канович - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Лики во тьме
VI
Оглавление– Ты знаешь, о чем я думаю?
Задавая мне с печальным и пугающим постоянством свой любимый вопрос, мама нисколько не сомневалась, что я знаю, о чем, но почему-то упрямо не желаю отвечать, чтобы лишний раз не бередить ее раны. Я и в самом деле догадывался, о чем она думает, и эти догадки не каждый раз, но через раз на мое удивление подтверждались. Ну, конечно же, об отце, над которым время сомкнулось, как вода в омуте над утопленником – сколько ни всматривайся в немотствующую глубину, ничего, кроме невнятных, возникающих и тут же без следа исчезающих на поверхности бликов, не увидишь. Еще, наверно, о голодной и студеной зиме, о том, что стыдно так долго объедать несчастную Анну Пантелеймоновну и расплачиваться с ней за доброту не деньгами (после нашего бегства с Ярославщины мы русских денег с помятым, карманным Лениным вообще в глаза не видели), не золотыми фамильными брошками, как Розалия Соломоновна, и не серебряными браслетами, как продавщица из Борисова Роза Варшавская (свое обручальное кольцо мама успела выменять еще в лесистой Березовке, засыпанной по самые крыши бедностью, как снежными сугробами, на пуд ржаной муки и три трефных куска копченой свинины), а яловым сочувствием к горькой вдовьей доле сердобольной хозяйки.
Меня самого мама никогда не удосуживалась спросить, о чем я думаю. На сей счет у нее, видимо, не возникало никаких сомнений. Она постоянно пребывала в счастливой уверенности, что мои мысли чуть ли не со дня моего рождения живут на полном ее попечении и иждивении, ни в чем не испытывают нужды или, как она любила на людях говорить, «тепло одеты, обуты и досыта накормлены» и потому никогда не разнятся с ее собственными. Такое совпадение маму не только радовало, но и убеждало в том, что в будущем мне не грозит ни сума, ни тюрьма. Прикажет сыну лечь и уснуть – и он тут же, пусть и поскуливая по-щенячьи, вместе со своими тепло одетыми, обутыми и досыта накормленными мыслями послушно поплетется к постели; запретит ему из-за «слабого здоровья» наниматься в рубщики табака или на другую работу, чтобы кое-что заработать и не подохнуть с голоду – и сын безропотно будет торчать дома, глазеть на голые стены, строить от скуки рожицы геройски павшему Ивану Харину, не перестающему в пустой горнице улыбаться ловким и мастеровитым паукам, прилежно ткущим свои коварные сети, или околачиваться во дворе и на голодный желудок тоскливо и громко покрикивать «Иа! Иа! Иа!», как одряхлевший ишак Бахыта.
– Ты, Гиршке, знаешь, о чем я думаю? – повторила мама.
И хотя я догадывался, о чем, я упорно хранил молчание, потому что она ждала от меня в ответ не согласия, не возражения, а только ненадоедливого и лестного внимания.
– Может, нам надо было остаться там… в Йонаве, а не пускаться в бега… В своей постели и блохи не так больно кусают. Может, отец был прав, когда говорил, что немцы не такие уж звери?
О немцах я знал только то, что они выгнали нас из дому и собираются убить моего отца. Может, уже убили, как Ивана Харина, дразнящего на стене белозубой улыбкой пауков и мстящего своей бедовой судьбе. Так разве они не звери? И что еще надо о них знать, чтобы больше в теперь уже немецкую Йонаву носа не казать?
– Коли уж суждено, то лучше умереть вместе, чем по отдельности… И не от голода… Не от малярии… Я боюсь, что тут мы долго не протянем.
Таких слов я никогда от мамы не слышал. Она, как уверял неисправимый нытик-отец, всегда и во всем искала и непременно находила что-то светлое, даже там, где все сплошь было залито дегтем. Мне, по правде говоря, умирать не хотелось ни врозь, ни с кем-нибудь заодно – ни от голода, ни от холода, ни от малярии. Мои мысли, вскормленные самоотверженными родителями и по-настоящему, по-взрослому, никогда не сопротивлявшиеся им, вдруг взбунтовались против своих кормильцев, и я выложил вслух то, о чем мы с Левкой договорились на Бахытовом подворье и что решили до первой попытки держать от всех в строжайшей тайне.
– Завтра я в школу не пойду… Ты меня, пожалуйста, не ищи. Есть одно дело…
– Дело? – выпучила на меня глаза мама, не привыкшая к таким неожиданностям. – И что это, если не секрет, за дело?
Я замялся. Левка взял с меня слово, что я никому о нашей затее не проболтаюсь. Иначе все, мол, сорвется, как рубка табака, мамы поднимут панику, объединятся и никуда нас не пустят. А дело не терпит. Не сегодня-завтра выпадет снег, покроет поля, и ничего из-под этого снежного покрывала не выгребешь.
Не было случая, чтобы я когда-нибудь что-то утаил от мамы. От такого утаивания ее подозрительность и страх только разбухали, а бдительность удваивалась и оборачивалась для меня круглосуточной слежкой. Стыдно было разглашать нашу с Левкой тайну, но мне казалось, что, скажи я правду, мама не только не осудит меня, но поймет и поможет. Ведь от того, что мы задумали, никому никакого вреда, только польза…
Захваченный доверчивой нежностью, я, запинаясь, стал объяснять ей, что Левка нашел замечательный способ защититься от надвигающегося голода и что для этого вовсе не требуется дни напролет задыхаться от табачной пыли в сарае-развалюхе, ездить с подпольной махоркой на базар куда-то в Андижан или в Ташкент или воровать. Единственное, что нужно было для осуществления нашей задумки, это большая торба, какие для кормежки вешают на голову лошади, старая наволочка или мужская рубаха.
– Торба? Наволочка? Мужская рубаха?
Мама смотрела на меня с боязливым изумлением и, наверно, думала, что я брежу.
Не переводя дух и подстрекая ее недовольство, я выпалил, что лучше всего, конечно, наволочка, ибо она намного вместительней, чем конская торба, и ее можно потом постирать и снова надеть на подушку, но если наволочку раздобыть не удастся, то вполне сойдет и мужская рубаха с завязанными рукавами. С тем же запалом и с той же доверчивостью я попросил маму на минутку перенестись на колхозное поле, небрежно сжатое жнейками, и представить себе неубранные, разбросанные там и сям ржаные колосья с вымокшими под осенними дождями зернами, Левку Гиндина, а также ее сына, которые вышагивают с раннего утра по жнивью и бойко, как цапли из болота нерасторопных лягушат, вылавливают уже тронутые гнилью, оставшиеся после уборки колоски.
– А это можно? – глухо спросила мама, и в ее вопросе уже заключался не подлежащий обжалованию приговор. – Вам за это не влетит? Ведь тут все шиворот-навыворот, ничего не разберешь – нельзя того, что можно, и можно то, чего где-нибудь в другом месте, скажем, у нас в Литве, нельзя.
Нашу затею она явно не одобряла.
– К весне все равно все сгниет, – мягко возразил я. – Зачем такому добру зря пропадать? Лучше собрать, вылущить, смолоть и – на лепешки…
Но, видно, моей куцей правде, грозящей, как ей казалось опасностями и сулящей беду, мама предпочитала безнаказанные лишения и небезопасный голод. Вопреки всем моим ожиданиям моя правда, на которую я, нарушив данную Левке Гиндину клятву, так уповал, никак не устраивала ее.
– Не хочешь идти в школу – сиди дома, – сказала мама и, по обыкновению, принялась на примерах столетней давности убеждать меня, что, кроме ее братца – Шмуле-большевика, вздумавшего бороться в подполье с мраком за светлое и сытое будущее незнакомого и загадочного для большинства местечковых евреев мирового пролетариата, никого в нашем роду в тюрьму не упекали, что наши родичи каждое зернышко в хлебе насущном добывали не тайком, не под надзором полиции, не разбрасыванием листовок на рыночной площади, не оглядкой на светлое будущее, а зарабатывали своим потом и кровью молча, не отрывая глаз от иглы и шила.
– Ты же сама сказала, что мы тут долго не протянем, – выслушав ее поучения, подавленно пробормотал я.
– Сколько протянем, столько протянем, – вздохнула мама. – Но я хотела бы, чтобы ты на всю жизнь зарубил себе на носу: то, что, мой мальчик, посеял и взрастил не ты – тебе не принадлежит.
Честно признаться, такого поворота в разговоре я не ожидал. Сравнение с моим дядюшкой Шмуле-большевиком и вовсе меня пришибло. Я же ни с кем не собирался, как он, бороться, требовать под окнами колхозной конторы, чтобы Нурсултан Абаевич или Кайербек немедленно уступили мне или этому загадочному мировому пролетариату власть. Все, чего я хотел, – это стянуть со своей подушки наволочку, прийти на покинутое всеми, побитое градом колхозное поле и набить ее беспризорными колосками – то есть тем, что мой дядюшка Шмуле-большевик высокопарно называл светлым будущим, пусть для нас с мамой и не ахти каким сытым, но все-таки будущим. Не собирался я оспаривать и справедливость маминых слов о том, что не посеянное мной и мной не взращенное мне не принадлежит. Но я не понимал, чем я хуже мыши-полевки, которая шастает по полю и своими острыми, как лезвие перочинного ножика, зубками выковыривает из гибнущего колоса свой завтрак? Чем я отличаюсь от голодной птицы, которая, сложив усталые крылья, садится на жнивье и смело склевывает в обед осыпавшиеся в грязь зернышки, чтобы благополучно долететь до теплых краев? Разве роженица-земля затаит на меня обиду за то, что я дерзнул присвоить ее дары, которыми пренебрегли их безалаберные хозяева, за то, что, благодарно тысячи и тысячи раз кланяясь ей, уберег эти дары от скорой и бессмысленной гибели, собрал их, принес домой и честно поделился с теми, для кого она их и рожала?
Маму не интересовали мои мысли – она с самого начала была против нашей затеи с колосками, и переубеждать ее не имело никакого смысла, ибо для любящих нет доводов убедительней, чем страх за тех, кого они любят. Я уже корил себя за то, что так глупо разоткровенничался. Надо было встать пораньше и до ее ухода в школу отправиться с Левкой в поле, всласть там потрудиться и вернуться в полдень с добычей. А теперь мама глаз с меня не спустит, будет за мной повсюду ходить, она может из-за меня даже бросить работу, за которую ей покуда ни гроша не платят и вряд ли когда-нибудь заплатят вообще, сидеть целыми днями дома и рассказывать похлеще, чем Арон Ицикович о далеком и прекрасном Цюрихе, всякие занятные истории о давних временах, о нашем древнем роде, где за двести с лишним лет не было ни одного (не считая моего мятежного дядюшки Шмуле-большевика) арестанта и ни одного вора, а была уйма портных и сапожников, с полсотни краснодеревщиков и плотников, белошвеек, нянек и кормилиц, дюжины брадобреев, трубочистов и кровельщиков, один могильщик – хромоногий Менаше, похожий на Сталина, и два – не про нас да будет сказано – сумасшедших.
Ослушаться маму было не так страшно, как обмануть Левку и дезертировать. Чтобы усыпить ее бдительность, я всякими уловками оттягивал тот день, когда мы с Гиндиным должны были на рассвете встретиться у харинского колодца и отправиться в поля, которые начинались сразу же за околицей кишлака и убегали к подножию Ала-Тау. Мои уловки вызывали у боевитого напарника глухое раздражение, и однажды он решил вывести меня на чистую воду.
– Чего ждем? – ядовито спросил он. – Погода с каждым днем все больше портится. Скоро, того и гляди, завьюжит, заметет…
– И вправду портится, – сказал я без всякого воодушевления и, чтобы как-то его успокоить, добавил: – Но, может, завтра выглянет солнце.
– Завтра, завтра, – надулся Гиндин. – У тебя, по-моему, уже сегодня поджилки трясутся.
Меньше всего мне хотелось прослыть предателем и трусом, который без командирского разрешения маменьки боится даже в нужнике ширинку расстегнуть. Уж лучше, прикинул я, получить нагоняй от мамы, чем удостоиться обидного прозвища от Левки, нависающего над тобой, как беркут над жертвой. Промямли я еще что-нибудь про завтрашнее солнце, и Гиндин раструбит по всему кишлаку, что я чемпион Союза по быстрому накладыванию в штаны.
– Неужели, Гирш, вы, евреи, и в самом деле такие трусы, как о вас на всех перекрестках судачат? – набычился Гиндин.
– С чего это ты взял?
– Слышал, слышал. Из Ленинграда с нами до Свердловска один такой мужичок ехал – всю дорогу только об этом и калякал: евреи, мол, за прилавком храбрецы русский народ обвешивать.
– Я не обвешиваю.
– Разве я тебя об этом спрашиваю? Я спрашиваю, идешь со мной или нет?
Я набрал в легкие воздух, вспомнил маму, Зойку, отца, воюющего где-то под Белгородом с немцами, и выдохнул с сомнительным бесстрашием: – Иду.
– Так сразу бы и сказал… А то все юлишь, как барышня…
Назавтра, дождавшись, когда за мамой на рассвете скрипнет дверь и за окнами умолкнет приветственный лай ветерана Рыжика, я встал, прислушался к тихому и праведному сопению Зойки за ширмой, напялил просвечивающиеся на отощавшей заднице штаны и байковую рубаху, стянул со своей подушки наволочку и на цыпочках вышел во двор.
На небе еще копошились звезды – верные сторожа и хранители ночных тайн и снов, но уже занималась заря, и нежно-розовая полоска, отслоившаяся от мрака, светилась на востоке, как поверхность только что вынутого ухватом из печи праздничного пирога.
Левка задерживался. Я стоял у колодца, сжимая под мышкой серую наволочку, смотрел на подбадривавшие меня своим великодушным сиянием звезды и думал о том, что, пока не явился непреклонный Левка, можно еще, пожалуй, вернуться обратно в хату, что-то наспех поклевать, поплестись в школу и, не подвергая себя никакому риску, примоститься на парте рядом с Зойкой и спокойненько слушать, как отличница Белла Варшавская, закатывая глаза и захлебываясь, читает:
От Сулеймана вам привет.
Страна цветет для вас, ребята.
В стране для вас встает рассвет…
Рассвет и впрямь вставал. Где-то на другом конце кишлака, наповал сраженного сном, молодо и властно закукарекал первый петух.
Господи, неужели Левка проспал?
Я вдруг поймал себя на мысли, что обращаюсь к Всевышнему не столько с вопросом, сколько с настойчивой просьбой, чтобы случилось именно так, как я Его, Всемогущего, прошу, так, как мне хочется, но справедливый Бог евреев в такую рань, видно, как и Левка, продолжал сладко спать, и ни ангелы, ни серафимы из-за моих мелочных просьб и вопросов Его будить не посмели.
Я прислушался к плотной, как наливающийся соком кукурузный початок, тишине, но в ней ни голоса Бога, ни шагов Левки не было слышно. Терпение мое иссякло, и я уже подумывал, освободившись от прежних обещаний Гиндину, вернуться в хату, как тишину просверлил разбойничий свист, и в зябкой, рассветной полумгле вырос заспанный Левка с большой дорожной сумкой в руке.
– Побежали! – скомандовал он и, перекинув через плечо сумку, двинулся вперед.
Чистый, светлеющий купол неба не предвещал ни дождя, ни града, и мы, как и подобает всякому, кто отправляется на рискованное дело, молча добрались до края безбрежного поля скошенной ржи, посреди которого в утреннем мареве одиноко маячил бесколесный комбайн с переломанным хоботом.
Сначала мы с Левкой шли вместе, обыскивая каждую пядь и подбирая с сырой и бесприютной земли бездыханные колосья, которые валялись под ногами; потом, чтобы не тратить время на лишние разговоры и не подглядывать друг за другом, кто сколько собрал, разбрелись в разные стороны – я принялся ряд за рядом прочесывать середину поля, а Левка деловито вышагивал вдоль межи, отделявшей его от мусульманского кладбища с редкими невысокими надгробьями, издали напоминавшими вставших на задние лапы и застывших от любопытства зверьков.
Утренняя мгла таяла, и свет прибывал, как вода в половодье, круша преграды и разливаясь во все концы. Поверженных колосьев было не счесть, мы с Гиндиным рассчитывали обернуться быстро и, выгрузив собранный урожай, даже поспеть к третьему уроку. Левка мог и не торопиться – Розалия Соломоновна к его отлучкам, наверно, давно привыкла. А я боялся, что мама вдруг хватится меня, и с ней что-нибудь случится – в обморок упадет или всех в кишлаке на ноги поднимет. Но я старался об этом не думать: мама меня простит, когда увидит, сколько я принес добра и на что его можно употребить; я старался ни о чем не думать и вокруг ничего не замечать – ни солнца на небе, ни маячившего вдали дворцового величия гор, ни широких и тяжелых крыл орла, летящего с сусликом в железном клюве над старинным мусульманским кладбищем. Кроме колосьев, ничего для меня на свете не существовало. Только колосья, колосья, колосья… На колос была похожа и моя голова, из которой мне удавалось вылущить лишь одну-единственную мысль – поскорей набить наволочку и – домой, подальше от этого огромного поля, от этого одичавшего мусульманского погоста, от этого суслика, вылезшего из своей темной норки, чтобы погреться на солнце и полюбоваться наземными красотами мира, и неожиданно взмывшего в небо в железном орлином клюве.
Наволочка распухала.
Распухал от гордости и сборщик. Если каждый день, пусть и не каждый, а два-три раза в неделю, я буду в общий котел приносить столько, то это, конечно, станет весомой добавкой к пайку, который нам добровольно и бескорыстно из своих скудных домашних запасов выделяла Харина.
От того, что я все время нагибался, у меня ломило спину, но я не обращал внимания на боль, которая заглушалась недетским, почти неистовым азартом и сладостным предвкушением первой самостоятельной победы в жизни. Я толком тогда не сознавал, что это за победа и над кем, но удивительное чувство преодоления какой-то невидимой и запретной черты, перед которой я еще недавно застывал в нерешительности и в страхе, успокаивало меня, умаляло вину перед мамой и подпитывало мою юную, еще до конца не оперившуюся независимость.
Тут, на этом необозримом поле, у подножия Ала-Тау, вблизи заброшенного чужого кладбища, я первый раз в жизни остался один на один с миром, как тот неосмотрительный суслик, который вылез из своей темной норки на поверхность, чтобы среди гнили и комьев осенней грязи добыть для себя корм на зиму и перед холодами погреться на прощальном солнышке. Мир этот и впрямь завораживал, он был невыразимо прекрасен. Такие красоты никогда не могли мне присниться в моих тесных и густонаселенных местечковых снах; насколько глаз видит, лучистый простор, белоснежные вершины в царственной небесной короне из голубого жемчуга, умаявшаяся за лето степь, тянущаяся до кромки горизонта и у самой кромки надумавшая прилечь отдохнуть от усталости. Очарованный свидетель этой роскоши, я, тем не менее, чувствовал себя в этом мире лишним, ненужным и заведомо был жертвой его несовершенства и разлада.
Довольный снятым урожаем, я стал озираться вокруг и искать Гиндина. Заметив за комбайном, у дальней межи движущуюся черную точку, я снял широкий картуз, который когда-то носил героический Иван Харин и которым меня к началу учебного года одарила вдова, стремившаяся при каждом удобном случае придать сходство со своим погибшим мужем, и замахал ее подарком над головой, давая знак Левке, что пора обратно…
Но черная точка на мои призывные взмахи картузом не отзывалась, и я решил подкрепить их голосом:
– Левка!
– Левкалевкалевка… – подхватило эхо и понесло по полю.
И вдруг мне показалось, что черная точка увеличилась, задвигалась и стала растягиваться в длину. Я вложил два пальца в рот и что есть мочи свистнул, но Гиндин, первый свистун в кишлаке, не ответил. Между тем черная точка продолжала расти и приближаться, она еще больше удлинилась, и вскоре до моего слуха донесся какой-то неясный, самоповторяющийся звук – не то цокот, не то топот. Наконец из марева вынырнули голова оседланной лошади и торс всадника в надвинутой на лоб буденовке, в которой в колхозе, а может быть, и во всей округе, гарцевал только один человек – объездчик Кайербек. Первой моей мыслью было – бежать, но лошадь Кайербека неслась быстрей, чем моя мысль. Уже четко можно было различить не только развевающуюся на скаку гриву и высокие, мохнатые ноги, но и отливающий коричневым панбархатом круп и словно припаянные к нему шпоры седока. Уже видно было, как из-под копыт Молнии во все стороны разлетаются глиняные брызги, перемешанные с соломенной окрошкой.
Сколько она своими резвыми копытами злаков потопчет, беззлобно, с сожалением подумал я о лошади, все еще надеясь, что Молния с Кайербеком пролетят стороной. Будь рядом со мной Левка, младший Рымбаев, наверняка, промчался бы мимо – какой резон объездчику останавливаться и трогать квартиранта своего отца Бахыта. Присутствие Гиндина, глядишь, пошло бы и мне на пользу. Но Левки и след простыл. Пока моя мысль металась от надежды к отчаянью, как мышонок в мышеловке, Молния ко мне приблизилась настолько, что в утренней дымке уже совершенно четко обозначились и взмыленная морда лошади, и латунная пятиконечная звезда на поношенной буденовке Кайербека, которая служила недвусмысленным свидетельством его карательной и несокрушимой преданности отчизне.
Кайербек натянул поводья, и разгоряченная лошадь встала в нескольких метрах от меня на дыбы. Не слезая с нагретого ошпаренной задницей седла и поигрывая кнутом, объездчик поманил меня толстым, как пестик, пальцем и бросил:
– По-русски понимаешь?
Прижимая к груди битком набитую колосками наволочку, я кивком ответил и весь сжался.
– Первый раз собираешь?
Лошадь тяжело дышала и прядала ушами. Время от времени она устало поворачивала голову и оглядывала поле, горную гряду, голубое небо, и в ее глазах поблескивали искорки скоротечного и печального восторга. Казалось, отдыхал и Кайербек.
– Первый.
– Первый, а собрал немало, – объездчик выплевывал слова, как лузгу – неторопливо, прямо мне в лицо, в глаза, в уши. Он потрепал свою Молнию по крупу и повторил: – Совсем немало… Стахановец… А сколько этому стахановцу лет?
– Тринадцать.
Чем больше он меня расспрашивал, тем острее я чувствовал грозящую опасность, и по внушенной с малолетства привычке, не долго дожидаясь, обратился в мыслях за помощью к заступнику всех страждущих евреев – к Богу. Но как в таких случаях говаривал мой дядюшка Шмуле-большевик, Господа Бога как назло в это время не было дома, зато Кайербек – вот он, рядом в своей священной буденовке и с неизменной камчой в руке.
– Тринадцать, тринадцать, – пропел объездчик. – Возраст вполне подходящий. Уже и судить можно, и сажать можно. Знаешь, что по нашим древним степным обычаям полагается за воровство? – Он прищурился, задвигал смуглыми скулами, покосился на меня, и, как бы закончив зарядку, сказал:
– Полагается отсечение правой руки.
Звякнув шпорами, Кайербек подъехал ко мне вплотную, перевесился в седле и, поддев кончиком камчи мой картуз, сорвал его с головы, как подсолнух.
– Ясно, – ответил он за меня, и его голос тут же освободился от налета любопытства и укорененной родовой вкрадчивости. – Ну, а теперь все, что спер, давай высыпай.
Может, оттого, что с появлением объездчика я весь уже состоял из страха, страшней от его слов мне не становилось, я Кайербека почти не слышал, не торопился выполнять его приказы, стоял перед ним, простоволосый, беззащитный, оглушенный ощущением скорой и скверной развязки, и передо мной от всего великолепия мира, еще недавно открывшегося моему жадному, доселе не избалованному взору, остались только поношенная буденовка с латунной звездой и сплетенная из кожи и проволоки плетка, да еще огромные глаза Молнии, полные безъязыкой человеческой печали.
Когда я нагнулся, чтобы поднять с земли свой картуз, объездчик неожиданно изловчился и огрел меня своей воспитательной плеткой по спине, я громко, как от ожога, вскрикнул, обернулся, но тут же за первым ударом последовал другой, еще более хлесткий, потом Кайербек спешился, вырвал у меня из рук наволочку с незаконно присвоенным колхозным добром и с какой-то врожденной основательностью и упоительным ожесточением принялся разлиновывать мои плечи и лопатки кровавыми полосами; я брыкался, бодался, увертывался, нырял под круп лошади, сдавленным криком раздирал горло и небеса, но Кайербек отовсюду выдергивал меня, как гвоздь из стены, наставительно приговаривая:
– Благодари Бога, что сегодня у меня хорошее настроение, но впредь будешь знать, как в чужие закрома лезть. Будешь знать!.. Будешь!.. Бу…
Демонстрируя свое хорошее настроение, объездчик хлестал меня с такой силой и рвением, словно задался целью рассечь мою спину на части, и только когда под выхлесты кнута я рухнул на жнивье, он заткнул его за пояс. Последнее, что донеслось до моего слуха, было протяжное ржание удаляющейся лошади.
Я лежал ничком на земле, боясь пошевелиться; каждое движение причиняло мне острую, нестерпимую боль, спина взбугрилась и полыхала, как разделанная в местечковой мясной лавке туша, от каждого вздоха я обливался потом. Хотелось только одного – умереть, чтобы никто – ни мама, ни Левка, ни Анна Пантелеймоновна с Зойкой – не увидел меня в таком виде, и когда я от боли закрывал глаза, казалось, что я и в самом деле умер, только меня еще не нашли и не похоронили на мусульманском кладбище, я пока лежу в открытом, незаколоченном гробу (разве земля – не такой открытый гроб?) и, как подобает покойнику, жду, когда придут люди, обмоют меня и, окутанного синим небом, как саваном, опустят в могилу.
Сколько я так пролежал на стерне, одному Богу известно, но мнилось, что с тех пор, как, корчась от боли, я снопом упал на землю, минула целая вечность, а смерть все не приходит, и я почему-то еще способен шевелить мозгами и думать – не о себе, не о Кайербеке, а о своей несчастной маме, которая, видно, уже мечется в поисках своего неслуха по всему кишлаку и проклинает день, когда родилась на свет. Может, из-за нее костлявая и решила немножко задержаться в дороге – ведь чувство жалости, пусть и ненадолго, свойственно порой даже самой смерти.
От лежания ничком с каждой минутой делалось все трудней и трудней дышать, стучало в висках, тошнило, пересыхало во рту, першило в горле, но я не отваживался отодрать приплюснутое к земле измазанное грязью, перемешанной со слезами, лицо и повернуться набок. Время шло. Тычась влажными мордочками в мою рубаху, меня обнюхивали какие-то зверьки – может, любопытные суслики или простодушные тушканчики, может, полевые мыши или пробегавшая мимо молодая гиена, которой Анна Пантелеймоновна пугала маму; за ворот забирались неугомонные жучки и травяные клопы, они бестолково сновали по шее и исхлестанному, в волдырях и ранах, позвоночнику. Я завидовал умению этих зверьков и насекомых передвигаться, в любой момент вернуться в свою щель, в свою нору или логово, их безнаказанному праву повсюду без опаски собирать пищу. Почему, думал я, застыв, как мертвец, меня родили на свет человеком? Ведь мог же я родиться жучком или ласточкой… Лучше бы я летал, ползал, пресмыкался, грыз прошлогодние стебли, выклевывал на обед из колосьев зернышки, и рядом со мной, через двор или на другом конце улицы, жил бы не объездчик Кайербек, а какой-нибудь степенный сурок или трепетная ящерица? Неужели злее твари, чем человек, в мире нет?
И вдруг я услышал шорох соломы и шуршанье шагов.
– Гриша, – словно с небес, упал на меня голос.
– Левка… – буркнул я не ему, а земле облепленным грязью, пересохшим ртом. Но ни Левка, ни она, безмолвная, уставшая от недавних родов, меня не услышали. Я пытался приподняться, передать всем через Гиндина какие-то безутешные и ужасные слова, о существовании которых у себя я до этого дня сам не подозревал, но не мог оторваться от земли и еще раз раскрыть рот – каждая попытка двигаться и говорить только науськивала порыкивающую в конуре из моих костей и мяса овчарку-боль, овчарка впивалась в меня клыками, и я начинал от бессилия и злости беззвучно плакать.
– Ну и дела, едрена вошь! – не расслышав меня, выругался Гиндин. Затем он опустился на колени, осторожно приподнял мою рубаху, которую я не заправил в штаны, чтобы удобнее было нагибаться за колосками, и прошептал:
– Держись, Гриша. Я побежал в кишлак за подмогой!
Подмога подоспела быстро. Но прежде чем арба, в которую был впряжен молодой, шаловливый ослик и в которой в страду жнецам и вязальщицам снопов подвозили холодную колодезную воду, вкатила в раскисшее ржаное поле, из нее выскочила моя мама и, сотрясая своими воплями на идиш видавшие виды горные вершины, бросилась бегом ко мне:
– Гиршке! Гиршеле! Кецеле майн! Господи, Господи, уж лучше забери меня! Смилуйся, Господи, пожалей моего сына!.. Кто же услышит меня, если не Ты! Господи!
Пока несмазанные колеса арбы скрипели по полю, мама первой успела добежать до того места, где я лежал и, ополоумев от счастья, что я жив, растянулась на земле рядом со мной и принялась причитать:
– Я тут, я тут, я тут…
Причитания перемежались судорожными поцелуями, которыми она осыпала мою голову и шею. Но этого ей казалось мало, и, задрав на мне, как Левка, рубаху, мама стала целовать и по-коровьи теплым языком вылизывать мои раны.
Возница Олжас, наша хозяйка Харина и пришибленный Левка подняли меня и на руках понесли к арбе.
Только мама по-прежнему лежала на земле, как будто тщилась уговорить и ее, и Господа Бога, чтобы не забирали того, кого они не посеяли и не взрастили и кто им не принадлежит.