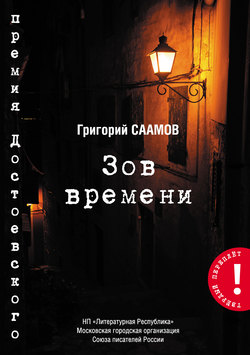Читать книгу Зов Времени - Григорий Саамов - Страница 7
Мои дом, моя семья
Супруга
ОглавлениеИ образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.
Борис Пастернак
Мы с супругой Ларисой Алексеевной Давыдовой встретились в 1993 году в день Рождества. К тому времени мы оба были разведёнными. И эта наша встреча решила наши судьбы. И вот мы прожили вместе уже 26 лет. За это время мы ни разу не поссорились, друг другу не надоели, хотя всё время находимся вместе.
Но чтобы было более понятно, расскажу о её судьбе. Расскажу о художнике не только талантливом, но и великолепно образованном. Я хочу рассказать об известном и близком мне человеке. Постараюсь быть предельно объективным, опираясь не только на свое мнение, но и на мнение известных художников, искусствоведов, критиков.
Итак, художник Давыдова Лариса Алексеевна…
В столичном журнале «Плацдарм» народный художник России, председатель Союза художников Московской области Сергей Харламов писал: «Талант Ларисы Давыдовой как художника ярко раскрылся в пейзажной живописи, натюрмортах, целой галерее портретов наших современников. Все, что ею создается, является образцом выразительности, профессионального мастерства, пронизано любовью к людям, россиянам, нашей истории, нашей Родине».
Этот авторитетный журнал уделил статье С. Харламова о Л. Давыдовой целый разворот с репродукциями ее лучших работ.
Л.А. Давыдова родилась в Подольске. Родители ее были рабочими. Мама Антонина Тимофеевна, в девичестве Козырева, родилась в Москве. В 3 года лишилась мамы, и ей пришлось уже в 15 лет самостоятельно зарабатывать на жизнь. Она приехала в Подольск, где жили ее родственники, и пошла работать сначала на хлебкомбинат, потом – на завод имени Калинина. Бог наградил Антонину Тимофеевну красотой, трудолюбием, врожденной интеллигентностью и фанатической преданностью своей семье, своим детям. Именно ее доброта, ее воля и трудолюбие были фундаментом семьи Давыдовых.
Отец Ларисы Алексей Ильич был слесарем-лекальщиком высшего разряда. Работал на Подольском электромеханическом заводе. Выполнял самые сложные работы, изготавливал точнейшие инструменты, участвовал в работах по космосу. Образование у него было неполное среднее, но природа наградила его незаурядным талантом и склонностью к искусству. Он великолепно плясал, отбивал чечетку, очень умело импровизируя. Хорошо пел и даже участвовал в хоре ветеранов, когда было ему уже за 80. Неплохо рисовал, хотя профессионально никто никогда его этому не учил. Правда, в их большой семье, в которой было пятеро братьев и две сестры, все его братья были самодеятельными художниками. А двое двоюродных братьев были настройщиками музыкальных инструментов. Но жизнь сложилась так, что Алексею с малых лет пришлось стоять у слесарного верстака, чтобы зарабатывать на хлеб. Именно отец впервые удивил маленькую Ларису, нарисовав ей оранжевую лилию с черными тычинками. Рисунок произвел на девочку впечатление чуда. Лариса поняла, что на белом пустом листе бумаги можно изобразить что-то волшебное. Может быть, именно тогда родилось у нее желание стать художником.
В семье было трое детей. Старший брат Евгений был на 13 лет старше Ларисы, другой брат Олег (дома его звали Аликом) – на 4 года старше сестры.
Жила семья Давыдовых в самом центре города Подольска, на Советской улице. Вот как вспоминает свое детство Лариса Алексеевна:
– Я себя помню очень маленькой, когда только начала ходить. Мы жили в старом деревянном купеческом доме, где занимали маленькую 15-метровую комнату на втором этаже. В наличниках наших окон всегда жили воробьи или ласточки. Я по утрам просыпалась с чириканием этих птиц и с первыми лучами солнца. Я помню этот свет. Окна наши выходили на восток, и комната у нас была очень светлая и очень чистая. Так начиналось утро, утро настоящего детского счастья. Из нашего окна были видны корпуса «Зингера», которые казались мне сказочными замками. А с другой стороны был виден наш Троицкий собор, его колокольня. И этот пейзаж – мой пейзаж. Он врезался в мою память и стал символом нашего Подольска. Я помню, как мы с братом Аликом бегали на Пахру – он впереди, а я за ним. Я помню его спинку, его шейку, позвоночник, ушки…
Портрет Л. Давыдовой, 1994 г. Фото автора
Олегу было 12 лет. Мальчик он был удивительно красивый и талантливый: отлично пел, рисовал, увлекался былинами, изучал их, читал сестренке вслух. Но однажды он с товарищем ушел гулять и не вернулся. Проискав его до 3-х часов ночи, родители заявили в милицию. Там равнодушно ответили, что по инструкции они к поискам могут приступить только по истечении 3-х суток. Но эти трое суток растянулись на долгие годы. Только через 13 лет случайно нашли останки двух мальчиков в старой заброшенной штольне в парке Талалихина. Опознали их только по ключам от сарая, по пуговицам и остаткам одежды. Накануне Лариса видела сон: Алик вернулся. Утром пришел милиционер и сообщил о страшной находке.
Росла Лариса девочкой любознательной и по-мальчишески озорной. Бегала вместе с братом и соседскими мальчишками с игрушечным пистолетом и шашкой. Куклами она увлекалась меньше.
– Я помню, как посредине комнаты у нас висела икона. – Вспоминает Лариса. – Именно посредине, а не в углу. Я постоянно смотрела на нее, и мне казалось, что ОН тоже смотрит на меня. Я замирала от ужаса и восторга одновременно. Мама была верующая, и я с детства знала, что Бог есть. Я знала, что со мной живет Ангел-хранитель, и я даже слышала шорох его крыльев. Я об этом рассказала ребятам в детском саду. Потом маму вызвали к директору и ругали, чтобы не говорила ребенку глупости.
Я хорошо помню наш вокзал, Шуховскую башню. Она тогда мне казалась каким-то живым великаном. Мне особенно нравилось, когда отец водил меня на переходной мост. Под ним проносились черные паровозы со страшным ревом и ураганом, выпуская огромные черно-белые тучи пара и дыма. Я трепетала от страха, и в то же время было очень интересно. Мое детское воспоминание о Подольске так и осталось во мне.
Город особенно хорошо проглядывался с Красной Горки. Было очень много зелени. Все это шелестело, двигалось. Я помню, по весне в Подольске всегда было много сирени и черемухи, много было лип. В воздухе стоял необыкновенный запах и кружились рои пчел. Да и сами деревянные дома имеют свой особый запах. Мы часто всей семьей ходили купаться на Пахру, под серый камень. А из парка доносились звуки духового оркестра, позже – джаза. Я под эти звуки с наслаждением погружалась с головой в теплые и чистые воды реки.
Я еще помню тогдашние зимы: дома, деревья, заборы под огромными «шапками» снега. И большущие, непроходимые сугробы.
Зимой дети приходили на Утинку и соседние улицы и, кто на санках, кто на лыжах, кто на чем, скатывались вниз. Разгон был такой, что выносило к самой реке. Стоял визг, крики, улюлюкание, особенно когда спускались девочки. А весной, когда начинался ледоход, детвора выбегала к Пахре, к кинотеатру «Художественный», с криками «Лед тронулся!»
– Мы наблюдали эту эпическую картину ледохода, когда глыбы льда с грохотом и скрипом наваливаются друг на друга. Удивительно, но здесь же сидели рыбаки, и почему-то рыба хорошо клевала. Они нам, детям, дарили рыбок в стеклянных банках. И мы несли их домой с такой радостью, как будто это были золотые рыбки…
Но все-таки я больше всего любила свой дом и свою улицу.
Л. Давыдова за работой, 1996 г. Фото С. Наседкина
Лариса очень тепло вспоминает эти места, высокие благоухающие липы, которые стояли около ее дома, огромные одуванчики во дворе. Но та оранжевая лилия, как чудо, появившаяся на бумаге, не давала ей покоя, бумага и краски манили ее. Сохранилось несколько акварельных работ, выполненных 11-12-летней девочкой («Фантастический пейзаж», «Автопортрет»), которые и сегодня удивляют точностью композиции, изысканностью передачи цвета и светотени. Тогда у Ларисы не было никакого образования, эти работы – продукт ее таланта, того, что от Бога. Правда, в 9 лет папа отвел Ларису в Дом пионеров, который находился на Стрелке, там, где сейчас наш Выставочный зал, к преподавателю Владимиру Павловичу Боброву.
– Мы поднялись на второй этаж. Я с ужасом думала, как я войду в этот зал, где находятся художники, как мы подойдем к учителю. – Вспоминает Лариса Алексеевна. – Со мной было четыре альбома с моими рисунками. Учитель посмотрел на меня через очки с огромными стеклами, потом посмотрел мои альбомы и сказал: «Прием уже закончен, но я возьму вас». (Он всем детям говорил «Вы».) Это был самый счастливый день в моей жизни. Я спускалась по лестницам, как на крыльях. Я занималась у Владимира Павловича всего год. Вскоре Дом пионеров перевели на Красную горку, куда я ездить не могла.
Училась Лариса Давыдова в Подольской школе № 1. Даже само здание школы произвело на девочку неизгладимое впечатление: там были огромные зеркала снизу до самого потолка. Это создавало впечатление не просто школы, а сказочного дворца.
Ребенком Лариса была неусидчивым и поэтому стала ходить на спортивную гимнастику и настольный теннис. Вроде рисование временно отошло на второй план. Но, к счастью, ее заметил преподаватель школы по рисованию Анатолий Иванович Ильин и сказал ей: «Давыдова, тебе надо рисовать, иначе жизнь свою пропрыгаешь». Он пригласил ее в школьную студию. И уже в шестом классе Лариса приняла участие в школьной выставке.
– Это была первая выставка в моей жизни. Было выставлено много моих работ, в основном – натюрморты в технике акварели. Одноклассники смотрели на меня с большим интересом и уважением, тем более что мои работы были оценены очень высоко.
А со своим учителем Владимиром Бобровым Лариса Давыдова вновь встретилась только через много лет, когда ей было уже 17. Лариса узнала его адрес и пришла к нему домой. Полуслепой учитель подвел девушку к окну, чтобы лучше ее разглядеть, и сказал: «Я помню ваши глаза, они не изменились, вы Лариса Давыдова. Жаль, что вы столько лет не ходили ко мне». Но Лариса помнила его удивительные уроки; помнила, как однажды, похвалив ее за хорошую работу, он погладил ее по головке. Погладил так, как делают только родители, – ласково и одобрительно. Это было исключением, так как с детьми он всегда держал дистанцию.
Но и за то короткое время, которое Лариса занималась у Владимира Павловича, он привил ей истинную любовь к изобразительному искусству и, главное, дал оценку ее таланту, которому прямой путь в большое искусство. Именно он посоветовал девушке поступить в Московское художественное училище памяти 1905 года. «Правда, у вас нет пока необходимых знаний, но зато есть главное – талант». После этих слов он дал ей ключ от изостудии и посоветовал порисовать с натуры, точнее – с гипсовых моделей. Она принесла голову Юлия Цезаря домой, осветила ее боковым светом, как научил Владимир Павлович, зашторила окна и стала рисовать. На улице была весна, за окном шумели дети, и очень хотелось выйти и погулять. Но Лариса поняла, что детство кончилось и надо упорно трудиться, чтобы осуществить свою мечту, свое предназначение – стать настоящим художником.
Репродукция картины Л. Давыдовой «Автопортрет с Ангелом-хранителем», холст, масло, 157x110,1993 г.
– Желание стать художником всецело овладело мной. – Рассказывает Лариса. – Я стала готовиться к поступлению в училище имени памяти 1905 года, которое считалось тогда лучшим в Советском Союзе. Находилось оно в самом центре Москвы, на Сретенке. Желающих поступить туда было очень много. Конкурс был 30 человек на одно место. Люди сдавали вступительные экзамены по несколько раз, даже дети известных родителей. Так что я тоже поступила не с первого раза. Зато, набравшись опыта, в следующий раз сдала все вступительные экзамены на «5». Среди прочих было такое испытание: надо было за три дня написать акварелью один натюрморт. Пока другие писали этот один натюрморт, я написала 6 работ, и все они были оценены на «5». Короче, поступила я в училище фактически первым номером на отделение промышленной графики.
В этом училище преподавал весь цвет тогдашней художественной элиты. Например, сын Николая Бухарина Б. Ларин (из-за известных политических событий он носил фамилию матери); Ю. Седов, великолепный педагог, ученик В. Фаворского и А. Дейнеки, потомок Рюриковичей, истинный русский дворянин и интеллигент; Валерий Волков, сын знаменитого художника Александра Волкова, и другие педагоги, потомки знаменитых художников: Н. Гончаровой, М. Ларионова, А Саврасовой и др.
Юрий Георгиевич Седов сыграл в судьбе Ларисы Давыдовой особую роль. Он сразу оценил ее талант, но считал, что для достижения больших успехов ей не хватает честолюбия. Он старался воспитать и развить в ней это чувство, выковать характер талантливой ученицы.
– Седов обладал глубокими энциклопедическими знаниями и мог ответить на любой вопрос. – Говорит Лариса Алексеевна. – Именно он первый открыл нам законы построения пространства и времени в изобразительном искусстве, разницу в понимании всего этого египтянами, греками, художниками средних веков, эпохи Возрождения и наших современников.
Валерий Александрович Волков дал нам огромные познания в организации плоскости холста, динамики цвета, света, пространства.
Знания и опыт этих уникальных педагогов сопровождают меня и помогают мне всю жизнь.
Именно Ю. Седов настоятельно рекомендовал Ларисе поступить в Академию Художеств – институт имени В.И. Сурикова. Она давно для себя выбрала именно этот институт, хотя распределение у нее было блестящее – дизайнером в Московский комбинат промграфики. Но туда на работу брали только после Строгановского института.
Но Суриковский институт был элитный, для избранных, для детей известных родителей, для детей, прошедших подготовку в Московской специальной художественной школе – МСХШ. Она была особой даже потому, что находилась рядом с Третьяковской галереей, в Лаврушинском переулке. Учащихся этой школы изначально готовили к Суриковскому институту. Они проходили великолепную подготовку по всем направлениям с детских лет, и поэтому соперничать с ними было трудно даже после училища. В Суриковский институт поступали также иностранцы – дети шахов, шейхов и генсеков. Но Лариса Давыдова, несмотря ни на какие трудности, упорно шла к намеченной цели.
– Я уже работала в комбинате промграфики, мои работы принимались с очень высокими оценками, хорошо платили. – Рассказывает Лариса Алексеевна. – Но я поступила в Суриковский институт, учеба в котором была большим счастьем. Спасибо родителям за то, что они понимали меня и терпеливо во всем поддерживали. Там преподавали такие выдающиеся люди, такие кумиры, что дух захватывало; известные художники, профессора: Т. Салахов, Д. Мочальский, В. Цыплаков, К. Тутеволь, В. Забелин, Н. Хритолюбов, директор Третьяковки Ю. Королев, И. Глазунов и другие. Картины этих мастеров украшают залы Третьяковской галереи, Русского музея.
На первых курсах преподавателем по специальности был профессор Николай Павлович Христолюбов. Он, умница, статный, импозантный мужчина, красивый как кинозвезда, был всеобщим любимцем. Николая Павловича называли вторым Суриковым, ставили его талант рядом с самыми выдающимися русскими художниками. Его произведения – это образец настоящей московской школы живописи, то есть самого высокого искусства. Именно этому он учил своих многочисленных учеников. Лариса вспоминает его занятия с неизменным восторгом. А работам Давыдовой профессор Христолюбов всегда ставил самые высокие оценки.
Уже на первых курсах Лариса и дочь Николая Павловича Даша подружились, хотя были в разных группах, и дружат до сих пор, вот уже 25 лет. И в радости, и в горести они всегда вместе. Так же, как и соученица Ларисы по училищу Ольга Талалаева, с которой Лариса дружит уже 30 лет. В 1993 году в Подольском выставочном зале состоялась совместная выставка трех подруг, художников Давыдовой, Талалаевой и Христолюбовой, и прошла очень успешно. Именно тогда я познакомился и с ними, и с Н.П. Христолюбовым. Мы с Николаем Павловичем сразу понравились друг другу, и он пригласил нас с Ларисой к себе на дачу в Поленово, где мы бывали и бываем часто. Там мы слушали рассказы Мастера о его выставках в разных странах мира, в том числе – в Италии, о знакомстве с великим скульптором современности Джакомо Манцу.
Отец Ольги Талалаевой Анатолий Николаевич тоже был известным художником, к тому же – человеком оригинальным, даже экстравагантным, образно говоря, русским Сальвадором Дали. Он был знаком с Пабло Пикассо и часто рассказывал о нем.
На третьем курсе Ларису Давыдову пригласила к себе известный профессор К.А. Тутеволь, замечательный мастер монументальной живописи, любимая ученица великого Дейнеки.
– Такой преподаватель тоже огромная удача. – Говорит Лариса Алексеевна. – Клавдия Александровна дала мне очень много. Оказывается, она следила за моими работами, они нравились ей, и пригласила меня к себе в мастерскую. Конечно, я была счастлива потому, что она к себе брала только тех студентов, работы которых ей нравились. У нас с Клавдией Александровной сложились самые добрые отношения. У меня сохранилась целая пачка ее трогательных писем, которые она мне писала уже после института. К сожалению, она рано ушла из жизни.
На летнюю практику студенты выезжали всегда в самые интересные места. Например, с профессором Вячеславом Николаевичем Забелиным они ездили в Ростов Великий и работали там все лето. Вечерами ребята собирались в номере преподавателя, пили чай и слушали увлекательные рассказы Мастера. Он имел доступ ко всем храмам и запасникам. – Иногда и нам доверяли ключи от этих святых храмов. – Говорит Лариса. – Когда ключом 16 века открываешь дверь, такое ощущение, что входишь не в здание, а в саму Историю. Мы писали интерьеры храмов, пейзажи, портреты, участвовали в выставках. Самая большая выставка у меня была на третьем курсе, когда мои работы взяли на Всесоюзную молодежную выставку, проходящую в Манеже. Мои работы понравились Салахову, Мочальскому и другим большим художникам. Это был мой первый большой успех.
Лариса всегда участвовала и в институтских выставках, в основном в конкурсных показах, и всегда занимала первые или вторые места. Деньги, которые она получала за эти успехи, тратила в основном на книги. Однажды ей в букинистическом магазине понравился роскошный фолиант, посвященный 100-летию Отечественной войны 1812 года. Она не спала всю ночь, «изобретала» способ как эту книгу купить. В конце концов она купила книгу, вложив в нее всю стипендию, все конкурсные деньги. Книгу, которая до сих пор является одной из любимых в ее богатой библиотеке.
Кроме преподавателей по изобразительному искусству, Лариса Алексеевна часто и очень тепло вспоминает искусствоведов – профессора Николая Николаевича Третьякова, который читал русское искусство, и профессора Евгению Владимировну Завадскую, известного востоковеда и специалиста по западному искусству.
– Лекции Третьякова и Завадской были такими интересными, что слушатели приходили со всего института, стояли в проходах, все записывали. Их лекции будоражили сознание, заряжали на целую неделю. Именно через Николая Николаевича Третьякова мы осознали, что такое в русском искусстве цвет, свет, тень; что такое черное, что такое белое. Ведь люди разных национальностей имеют свою особую символику цвета.
С Евгенией Владимировной Завадской у Ларисы Алексеевны сложились теплые дружеские отношения. Выяснилось, что они обе любят Коктебель, и бывали там вместе. Завадской нравились самобытные работы студентки Давыдовой, и она всегда оценивала их высоко. Она как-то попросила у Ларисы написанную в Коктебеле картину и, получив ее, повесила дома на самом видном месте.
Сразу после окончания Суриковского института Лариса Давыдова стала стипендиатом Союза художников СССР. Это тоже было большой редкостью. А в дореволюционные времена стипендии давали самым лучшим выпускникам Академии и посылали в Италию. Великий русский художник Александр Иванов получал стипендию для написания своей знаменитой картины «Явление Христа народу» в течение 25 лет. У нас же срок стипендиатства был установлен два года. Но Давыдовой за большие успехи в области исторического и современного портрета в порядке большого исключения продлили срок еще на год. Именно тогда написала она ряд своих лучших работ: «Карамзин в Остафьеве», «Портрет Татищева», портреты современников – «Верочка» и «Сережа», «Мальчик с яблоками», «Последняя черемуха» (посвящение подольским курсантам) и другие. Большинство этих работ сегодня находится в разных музеях России: «Карамзин в Остафьеве» – в Музее-усадьбе «Русский Парнас», «Верочка» и «Сережа» – закуплены Министерством культуры СССР, включены в экспозицию передвижной выставки «Наш современник» и выставлялись в десятках стран мира; «Последняя черемуха» находится в постоянной экспозиции Центрального музея ВОВ на Поклонной горе. Президент Комитета русско-славянского искусства, Лауреат Международной премии ООН академик Валентина Ивановна Жиленкова, посмотрев картину «Последняя черемуха», сказала: «Эта картина является новым словом в изобразительном искусстве. Сегодня, когда позади Афган, в действии Чечня, в памяти и в сердце – трагедия военных конфликтов в различных «горячих точках» планеты, образы «Последней черемухи» приобретают современное звучание».
Стипендиатский период в творчестве Ларисы Давыдовой был исключительно плодотворным, и надо было думать о постоянной работе и вступлении в Союз художников. Из многих заманчивых предложений она выбрала родной Подольск и Подольскую художественную мастерскую. Старожилы мастерской встретили молодую художницу доброжелательно, но все-таки устроили ей своеобразное испытание на зрелость: дали ей задание – написать портрет Ленина в детстве. Ленинские заказы были самими высокооплачиваемыми, и в то же время не совсем пропорциональная фигура вождя была своеобразной ловушкой для любого художника, если он этим не занимался специально. Но и Давыдова решила показать характер. Какое же было удивление мэтров ленинианы, когда она отказалась от этой работы, заявив: «Я Ленина в детстве не видела и писать его не буду». Такого не мог припомнить никто. Строптивую девочку пригласили к директору и отчитали в лучших традициях соцреализма. Правда, этот случай скоро все забыли, тем более что работы Давыдовой принимались и на худсовете, и заказчиками с самими высокими оценками и даже под аплодисменты. В те же годы Лариса успешно выполнила несколько монументальных работ, тоже заслуживших высокую оценку специалистов. Это были росписи в Москве, Химках, Подольске (школа № 26, бар в Выставочном зале). Лариса Давыдова очень скоро стала членом Союза художников СССР и одним из ведущих художников России: она участвовала во всех выставках всесоюзных, общероссийских, областных. Ее работы прямо с выставок закупались Министерством культуры, Дирекцией выставок, музеями. Произведения Давыдовой находятся в частных коллекциях в Италии, Франции, Японии, Бельгии, США, Израиле и в других странах дальнего зарубежья и СНГ.
Но в 1989 году заболела мама, и пришлось кисть отложить в сторону надолго. Страшная болезнь надежды не оставляла. Смерть мамы, долгие бессонные ночи в течение года, неимоверная усталость сказались полным опустошением, когда не хочется делать уже ничего. Но Лариса Алексеевна решила провести персональную выставку. Она понимала, что только творческий труд может помочь ей выйти из тяжелого состояния. Выставка состоялась в 1993 году в Подольском Выставочном зале. Оценка специалистов была справедливо высокой. Профессор Н. Христолюбов на открытии выставки сказал: «Лариса Давыдова показывает на этой выставке высокое мастерство. Она имеет редкое качество – фанатическое служение искусству и России. Такой ученицей можно гордиться».
Незадолго до этого друзья пригласили меня в гости – вместе отметить Рождество. Там познакомили меня с очаровательной женщиной, художником Ларисой Давыдовой. Горели свечи, мы пели под гитару романсы, читали стихи, танцевали. Я восторженно смотрел, как красиво танцует моя новая знакомая. Наверное, я восторгался слишком откровенно, потому что она неожиданно и даже не совсем кстати сказала:
– Имейте в виду, я замуж не собираюсь, мне это не нужно.
К этому времени я тоже успел наломать свою жизнь изрядно, уже несколько лет жил один, поэтому спокойно ответил ей:
– Я тоже жениться не собираюсь, и мне это не нужно.
На этом и расстались. Иногда перезванивались, я немного помог ей в организации персональной выставки. А через два месяца мы с Ларисой стали жить вместе. Пошли в загс, позвали друзей, закатили свадьбу. И вот уже 26 лет мы вместе. На нашу долю выпало много испытаний, но это только укрепило наш союз. За это время мы вырастили сад, построили дом, который своей архитектурой и затаившимся в нем уютом нравится всем нашим друзьям. Трудно объяснить: два сложных, давно сложившихся характера не только ужились вместе, но врозь нас уже никто не воспринимает. Для друзей Ларисы – художников – я уже свой человек, для мох друзей – журналистов и писателей – она тоже своя. Так и живем. Лариса пишет, творит, выставляется, готовится к большой персональной выставке. Ее творческие успехи широко освещаются в центральной печати, на радио и телевидении. В 2001 году она была представлена к Государственной премии Российской Федерации. В том же году вышел уникальный альбом «Художники Подмосковья», в котором Лариса Давыдова представлена лучшими своими работами. Недавно известный ученый, доктор исторических наук профессор А.Ф. Смирнов, увидев картину «Карамзин в Остафье-ве», пригласил нас к себе домой и торжественно вручил Ларисе роскошное издание «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина в двенадцати томах, в трех книгах. Профессор Смирнов является руководителем проекта этого уникального издания, его научным редактором, автором послесловия и комментариев. На титульном листе Первой книги дарственная надпись маститого ученого: «Замечательной русской художнице Ларисе Давыдовой, знатоку, почитателю Карамзина. Дружески, А. Смирнов».
Л.А. Давыдова за последние годы получила самые престижные награды Союза художников России и Российской академии художеств: Золотую медаль «Духовность, Традиции, Мастерство», Золотую медаль имени Сурикова, Серебряную и Золотую медали Академии, награды губернатора Московской области и города Подольска. Она стала заслуженным художником России, членом-корреспондентом Российской академии художеств, уже 8 лет умело руководит Подольским отделением СХР, проявив и талант руководителя.
Произведения Л.А. Давыдовой находятся во многих именитых музеях России и зарубежных стран.
С полной уверенностью можно сказать, что основные успехи большого художника Ларисы Алексеевны Давыдовой еще впереди. Пожелаем ей удачи!