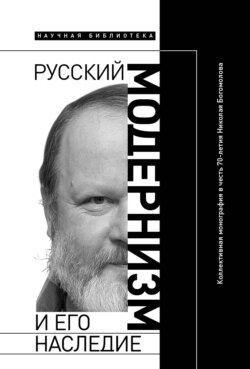Читать книгу Русский модернизм и его наследие. Коллективная монография в честь 70-летия Н. А. Богомолова - Группа авторов - Страница 2
Часть I
У истоков русского модернизма
Майкл Вахтель (Принстон)
«STARRES ICH» ИВАНА КОНЕВСКОГО
ИСТОЧНИК И СМЫСЛ ЗАГЛАВИЯ
ОглавлениеВ своем творчестве Иван Коневской предвосхитил многие тенденции, достигшие расцвета только в позднейшем русском символизме. Его глубокое погружение в немецкую культуру сближает его не столько с восхищавшимся им Валерием Брюсовым, сколько с «младшими символистами» и прежде всего с Вяч. Ивановым. Не удивительно, что сам Иванов назвал Коневского одним из своих предшественников2.
Настоящая заметка касается лишь одного свидетельства германофильства Коневского – сонета «Starres Ich». Само название этого стихотворения прямо отсылает к немецкой традиции. Однако в литературе о Коневском до сих пор не был найден его источник и соответственно не был поставлен вопрос о значении последнего.
STARRES ICH
С. П. Семенову
Проснулся я средь ночи. Что за мрак?
Со всех сторон гнетущая та цельность,
В которой тонет образов раздельность:
Все – хаоса единовластный зрак.
Пошел бродить по горницам я: так…
В себе чтоб чуять воли нераздельность,
Чтоб не влекла потемок беспредельность,
Смешаться с нею в беспросветный брак.
Нет, не ликуй, коварная пучина!
Я – человек, ты – бытия причина,
Но мне святыня – цельный мой состав.
Пусть мир сулит безличия пустыня —
Стоит и в смерти стойкая твердыня,
Мой лик, стихии той себя не сдав.
Как полагается, сонет Коневского четко делится на две части. В октаве доминирует физическое пространство, а в секстете метафизическое. Если в октаве поэт пробуждается среди ночи и старается ориентироваться в темноте, то в секстете домашний фон отпадает и заменяется пространством всего мироздания, где поэт, сталкиваясь с хаосом, провозглашает цельность своей личности.
В короткой жизни Коневского стихотворение печаталось дважды, что уже указывает на то, что сам поэт приписывал ему особое значение. Дж. Гроссман, автор единственной до сих пор монографии о Коневском, уделяет особое внимание именно этому сонету. По ее словам, поэт в конце сонета «решительно отстаивает свою личность перед силами и соблазнами хаоса и даже смерти»3. И хотя исследовательница подчеркивает центральность этого сонета для всего мировоззрения поэта, в подробном разборе она ни разу не поднимает вопрос о заглавии – и даже не переводит его.
В изданиях произведений Коневского редакторы верно переводят заглавие «Starres Ich» как «непреклонное Я», однако не ставят вопрос о его происхождении4. Таким образом неискушенный читатель может легко прийти к заключению, что «Starres Ich» – некий terminus technicus, часто встречающийся в немецкой философской литературе. Однако дело обстоит гораздо проще. Словосочетание «Starres Ich» такое редкое, что можно со стопроцентной уверенностью указать на единственный возможный источник – поэму «Фауст» австрийского поэта Николауса Ленау (1802–1850).
В свое время Ленау был знаменитым поэтом, певцом «мировой скорби» («Weltschmerz»). Его мрачная лирика вызывала интерес не только в немецкоязычных странах, но и в России, где она оставила заметные следы5. Начиная с Жуковского стихотворения Ленау переводились на русский язык, причем в числе его поклонников были поэты совершенно разных направлений, включая символистов (среди них был и В. Я. Брюсов, главный пропагандист творчества Коневского), А. В. Луначарского, переведшего всего «Фауста» Ленау, и Б. Л. Пастернака, поставившего стихи Ленау эпиграфом к своей эпохальной книге «Сестра моя – жизнь».
В рабочих тетрадях Коневского в 1895–1896 годах имя Ленау появляется многократно. Оно встречается в длинном перечне «мыслителей, разрушивших для меня материализм и утвердивших во мне уверенность в бессмертии души» и в коротком списке «любимых поэтов» (вместе с Ф. И. Тютчевым, А. А. Фетом, П. Б. Шелли и Ф. Вьеле-Гриффеном)6. Сонет «Starres Ich» был написан летом 1896 года, т. е. именно в то время, когда Коневской особенно увлекался творчеством Ленау.
Вряд ли стоит удивляться, что «Фауст» Ленау привлек внимание Коневского. В том же документе, в котором зафиксированы имена его любимых поэтов, есть и рубрика для любимых поэм. Коневской называет всего две, правда, обе они скорее пьесы, чем поэмы: «Фауст» И. В. Гете и «Пер Гюнт» Г. Ибсена. Другими словами, если «Фауст» Гете имел такое существенное значение для Коневского, то трактовка образа Фауста его любимым поэтом не могла не заинтересовать его.
Вторая часть гетевского «Фауста» была опубликована посмертно в 1832 году. По-видимому, это событие послужило творческим импульсом для Ленау, уже за десять лет до того думавшего о создании своего «Фауста». В 1833 году он начал писать свою версию, сперва увидевшую свет в 1836 году и в переработанном виде с дополнениями в 1840 году. Некоторые современники считали, что молодому поэту не следовало бы конкурировать со светилом европейской культуры. В ответ на эти сомнения Ленау в частном письме 1833 года объявил, что Гете не имел «монополию» на тематику Фауста, что она принадлежит всему человечеству7. В том же письме Ленау определил свое произведение как «рапсодию»8. Музыкальный термин здесь не случаен: Ленау слыл первоклассным скрипачом. Он также указывает на отсутствие четкой структуры произведения, подчеркивая, что эта поэма – собрание отдельных сцен, а не целостный текст, где все части органически связаны друг с другом9.
Со времен Гете фигура Фауста понималась уже не как образ традиционного злодея, а как общий символ человечества, стремящегося к «бытию высочайшему»10. В этом духе надо понять и стихотворение Коневского. Лирическое «я» здесь не кто иной, как современный человек, борющийся за свое место во вселенной.
В «Фаусте» Ленау словосочетание «starres Ich» появляется лишь один раз, в сцене «Разговор в лесу» («Waldgespräch»), написанной в 1840 году для второго издания. Мефистофель уговаривает Фауста отказаться от религии и природы, чтобы утвердить собственную личность. Приведем финал этой сцены:
FAUST
Behaupten will ich fest mein starres Ich,
Mir selbst genug und unerschütterlich,
Niemandem hörig mehr und unterthan,
Verfolg’ ich in mich einwärts meine Bahn.
MEPHISTOPHELES
Ich aber diene dir als Grubenlicht.
FAUST
Bin ich unsterblich oder bin ich’s nicht?
Bin ich’s, so will ich einst aus meinem Ringe
Erobernd in die Welt die Arme breiten,
Und für mein Reich mit allen Mächten streiten,
Bis ich die Götterkron’ aufs Haupt mir schwinge!
Und sterb’ ich ganz – wohlan! So will ich’s fassen
Nicht so, als hätte mich die Kraft verlassen,
Nein! Selbst verzehr’ ich mich in meinem Stral,
Verbrenne selbst mich wie Sardanapal,
Sammt meiner Seele unermess’nen Schätzen,
Mich freuend, dass sie nimmer zu ersetzen!11
В переводе Луначарского соответствующие строки звучат так:
ФАУСТ
Хочу лишь утверждать лишь Я одно:
Всегда довлеть себе должно оно;
Я никому не подчинен отныне,
Свой путь найду я в мировой пустыне.
МЕФИСТОФЕЛЬ
Я ж буду путеводною звездой.
ФАУСТ
Бессмертен я, иль смертен гений мой?
Коль смерти нет мне, то над всей вселенной
Простру я руки, буду воевать
За мир с богами, с мощью несравненной
Корону мира буду добывать.
А если смертен я – упадка силы
Не стану ждать и не завяну хилый,
О нет! Но я, как царь Сарданапал,
Сожгу себя в огне моих стремлений
С сокровищем души: тогда б я знал,
Что уж навек не заменим мой гений!12
В контексте поэмы Ленау такие высказывания Фауста отражают не столько смелость, сколько спесь, что в конечном счете ведет к трагической развязке. В отличие от трактовки оптимиста Гете, где, несмотря на многочисленные грехи, Фауст спасается, у пессимиста Ленау герой совершает самоубийство, и произведение кончается монологом торжествующего Мефистофеля.
Думается, что стихотворение «Starres Ich» дает основание предположить, что Коневской читал вышеприведенную речь Фауста в положительном свете. Как это можно объяснить? Как показывает А. В. Лавров, творческий метод Коневского заключался в составлении «книги материалов», служившей поэту своего рода «сырьем» для собственного творчества. В начале своей рабочей тетради Коневской написал: «В эту книгу я записываю все, что в читаемом поражает меня. Поэтому я сюда записываю не только те мысли, которые мне симпатичны, но все вообще мысли, которые мне кажутся замечательными, оригинальными, достойными запоминания…»13. По-видимому, выражение «starres Ich» показалось молодому Коневскому одной из тех поразительных мыслей, которые напрашивались на разработку. Можно предположить, что гибель Фауста – т. е. традиционная концовка драмы, которую мы находим и у Ленау, – не так поразила Коневского.
Вписал ли Коневской в свои рабочие тетради монолог Фауста о «непреклонном Я»? К сожалению, в нынешних обстоятельствах у нас нет возможности попасть в архив, чтобы проверить нашу гипотезу. Придется оставить такую возможность будущему исследователю. Впрочем, даже если этот конспект у Коневского не отыщется, можно предположить, что поэт руководствовался таким же творческим приемом, т. е. что он взял одну «поразительную» мысль, отделив ее от остального текста. Другими словами, для поэта всегда были важны наиболее выразительные части поэмы, а не весь текст как целое. В «Фаусте» Ленау, где главный сюжет перебивается всевозможными отступлениями, такой подход строгого отбора оказывается оправдан самим материалом.
В статье об эпиграфах у К. Д. Бальмонта Вл. Марков обнаружил определенный парадокс14. Существуют случаи, когда изучение подтекста углубляет понимание смысла стихотворения. И это неудивительно – на таком предположении зиждется целая отрасль науки, так называемые интертекстуальные исследования. Однако Марков обратил внимание и на такие случаи, когда знание контекста цитаты не только не помогает читателю-интерпретатору, но скорее запутывает его. Нам кажется, что немецкое название стихотворения Коневского служит примером обеих намеченных Марковым тенденций. С одной стороны, очень важно, что слова «Starres Ich» принадлежат Фаусту, воплощению современного человека во всей его сложности. С другой стороны, не надо думать о том, что у Ленау Фауст погибает после того, как произносит эту дерзкую речь. Внутри одной сцены слова Фауста можно трактовать как защиту целостной личности перед угрозой со стороны окружающего ее мира. В то же время в общем контексте концовки поэмы такое героическое представление оказывается ложным. Но Коневской поступает как поэт, а не как литературовед. Помнил ли он заключительную сцену «Фауста» Ленау или нет – вопрос уже второстепенный. Главное не в сюжете Ленау, а в творческом подходе самого Коневского, взявшего меткое и запоминающееся выражение и истолковавшего его соответственно своим художественным и философским соображениям. В стихотворении русского поэта «Starres Ich» – уже не высказывание отчаяния героя чужой поэмы, а выражение положительного убеждения самого Коневского, что «весь он не умрет».
2
«<Городецкий> <д>оказывал мне, что вышел из меня, – и хотя это неверно, п<отому> ч<то> раньше вовсе не читал меня, все же держится этого взгляда в связи с литературной стор<оной> <?> эволюции. Так мы и пришли к согласию, что нить действительно такова: Коневской, я<,> он» (дневниковая запись Вяч. Иванова от 20.VII.1906; любезно сообщено Н. А. Богомоловым, уже подготовившим дневники к публикации). Тот же текст, но с мелкими неточностями приводится в издании: Иванов Вяч. Собр. соч. Т. 2. Bruxelles, 1974. С. 757–758.
3
«„Starres ich“ shows the speaker fiercely defending his persona before the forces and seductions of chaos and even death» (Grossman J. D. Ivan Konevskoi: «Wise Child» of Russian Symbolism. Boston: Academic Studies Press, 2010. P. 28). Ср. сходную трактовку секстета сонета у А. В. Лаврова: «Стихийные, хаотические начала будоражат его внутренний мир, пытаются овладеть им, но встречают сопротивление и отпор» (Лавров А. В. «Чаю и чую»: Личность и поэзия Ивана Коневского // Коневской И. Стихотворения и поэмы. СПб.; М., 2008. С. 37–38).
4
Коневской И. Мечты и думы. Томск: Водолей, 2000. С. 567 (комментарий Е. И. Нечепорука); Коневской И. Стихотворения и поэмы. С. 233.
5
Simonek S. Zur Rezeption von Nikolaus Lenau in Rußland bis zur Jahrhundertwende // Lenau Forum: Jahresschrift für vergleichende Literaturforschung. Jahrgang 21. Wien-Stockerau, 1995. S. 93–113.
6
Лавров А. В. Цит. соч. С. 20; Литературное наследство. Т. 92. Кн. 4. М., 1987. С. 184.
7
Lenau N. Werke und Briefe: Historisch-kritische Gesamtausgabe. Bd. 3. Wien: Deuticke, Klett-Cotta, 1997. S. 260.
8
Ibid. S. 281
9
Hucke K.-H. Lenaus «Faust» // Lenau Forum: Vierteljahresschrift für vergleichende Literaturforschung. Jahrgang 15. Stockerau, 1989. Folge 1. S. 15–26; Gassner F. Nikolaus Lenau. Hannover: Wehrhahn Verlag, 2012. S. 62–63.
10
«Du regst und rührst ein kräftiges Beschließen, / Zum höchsten Dasein immerfort zu streben» («Ты будишь и живишь решение крепкое: безостановочно к бытию высочайшему стремиться» – из второй части «Фауста» Гете, строки 4684–4685; пер. Вяч. Иванова).
11
Lenau N. Werke und Briefe. Bd. 3. S. 205.
12
Ленау Н. Фауст. Поэма. Пер. с нем. Анатолия Анютина с приложением очерка А. Луначарского «Н. Ленау и его философские поэмы». СПб., 1904. С. 206. Коневской читал Ленау в оригинале. Перевод, исполненный Луначарским уже после смерти Коневского, передает смысл немецкого текста довольно верно. Интересно, что в пространном вступлении к своему переводу Луначарский выделяет именно эту сцену. «Во всяком случае, „Фауст“ Ленау богат выдающимися поэтическими красотами, глубокими мыслями, удачными выражениями, а в некоторых сценах Ленау как бы освобождался от своих цепей и поднимался выше себя самого: <…> таковы сцены „Герг“ и „Разговор в лесу“» (Там же. С. 20). Обширная тема «Луначарский и Ленау», выходящая за рамки данной заметки, ждет своего исследователя. Отметим лишь, что Луначарский не только перевел всю поэму «Фауст» Ленау, но сам написал драму «Фауст и город».
13
Лавров А. В. Цит. соч. С. 11.
14
Markov Vl. Some Remarks on Bal’mont’s Epigraphs // Studies in Russian Literature in Honor of Vsevolod Setchkarev. Columbus: Slavica, 1986. P. 212–221.