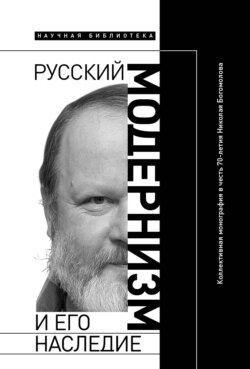Читать книгу Русский модернизм и его наследие. Коллективная монография в честь 70-летия Н. А. Богомолова - Группа авторов - Страница 3
Часть I
У истоков русского модернизма
Елена Глуховская (Санкт-Петербург)
СЕНСАЦИЯ И КЛЕВЕТА
ГАЗЕТНЫЕ НАПАДКИ НА ЭЛЛИСА ЛЕТОМ 1909 ГОДА15
ОглавлениеЛетом 1909 года поэт-символист, теоретик и критик Эллис (Л. Л. Кобылинский) писал книгу «Русские символисты»16, которая должна была стать первым историко-литературным исследованием нового направления. Работа проходила в читальном зале Румянцевского музея, где автор имел доступ к необходимым ему изданиям. Однажды смотритель зала обнаружил, что в двух книгах, используемых Эллисом, вырезано несколько страниц. Этот случай спровоцировал один из громких окололитературных скандалов 1900‐х годов17.
Обстоятельства происшествия и роль различных политических и литературных сил в последующих за ним событиях к настоящему времени довольно подробно восстановлены18. Задача этой статьи – рассмотреть не само событие, а то, каким образом скандальная тема обсуждалась московскими газетами в августе 1909 года.
Инцидент с Эллисом случился в июле 1909 года, а скандал начался 5 августа, когда факт порчи книг впервые был упомянут в газетах19. Все время бурления страстей вокруг Эллиса в прессе заняло около недели.
В первых публикациях, начиная с заметки «Русских ведомостей», сообщались одни и те же факты:
– утверждалось, что вырезаны были страницы из книг;
– упоминался портфель, в котором хранились вырезки;
– приводилось объяснение Эллиса о том, что он вырезал страницы из‐за нехватки свободного времени для их переписывания;
– указывалось, что Эллис и раньше был замечен в подобном нарушении;
– описывались меры, которые приняла администрация музея.
Статьи передавали хронологию развития событий, при этом уделялось внимание деталям и подробностям происходившего, акцент делался не на нарушителе, а на самом проступке. В зависимости от характера издания факты подавались по-разному. Если, например, серьезная общественно-политическая газета «Русские ведомости» осторожно говорила о «злоупотреблении с книгами», то тяготеющее к бульварному стилю «Раннее утро»20 писало о «систематической порче книг»; лаконичное описание действий Эллиса в «Русских ведомостях» («вырезывал страницы текстов и брал себе») «Раннее утро» дополняло подробностями: «вырезывает перочинным ножом листы из книг музея и прячет их в свой портфель»; нейтральная формулировка объяснения Эллисом своего поступка из «Русских ведомостей» («вырезывал из них страницы, не находя свободного времени для переписывания их»21) в «Раннем утре» звучала эмоционально и вызывающе («в оправдание заявил: – Мне некогда было заниматься выписками!.. Я дорожу каждой минутой времени»22). Единственная новая информация, которая появилась в «Раннем утре» – упоминание приват-доцента Дена. «Русские ведомости» писали: «…и раньше, в бытность директором музеев М. А. Веневитинова, тот же Коб-ский был лишен права посещения читальни за вырезки из книг, выдаваемых для чтения ему». А «Раннее утро» уточняло: «…ему воспретили дальнейшее посещение музея, но, по ходатайству приват-доцента Дэно [sic!], ему было вновь разрешено посещать библиотеку-читальню музея в виду его торжественного обещания не портить книг»23.
Таким образом, на первом этапе развития скандала был заявлен лишь факт нарушения нормы. Но уже здесь присутствовала одна важная в трактовке всего инцидента деталь: если «Русские ведомости» литературную принадлежность Эллиса прямо не называли, но она восстанавливалась опосредованно через характеристику журналов («некий литератор Л. Коб-ский, писавший в декадентских журналах под псевдонимом „Эллис“»), то «Раннее утро» давало прямую номинацию – «литератор-декадент» («небезызвестный литератор-декадент Л. Коб-ский, работающий в журналах под псевдонимом „Эллис“»). Именно принадлежность к декадентам стала определяющей характеристикой поэта в дальнейшем газетном дискурсе.
Появившиеся на следующий день статьи уже встраивали дело Эллиса в ряд подобных явлений, происшествие квалифицировалось и в итоге получало общественную оценку. Так, 6 августа в октябристской газете «Голос Москвы» была опубликована статья под заглавием «Шарлатаны», подписанная «Летописец». В ней случай с Эллисом ставился в один ряд с недавним скандалом с К. Бальмонтом, которого обвинили в плагиате24. Подчеркивалась принадлежность поэтов к одной литературной группе, которая сравнивалась с группой преступников: «У г. Бальмонта была своя литературная семья. Ютилась она в „Весах“. Семья была дружная на диво, как шайка заговорщиков. Все друг за другом следили, друг друга поддерживали и друг друга хвалили. На недругов нападали словом»25. Пространное рассуждение о взаимоотношениях между символистами продолжилось обвинением авторов «Весов» в литературной непорядочности, наглости, развязности и самовосхвалении: «Перед нами их же книги, они – неподкупные свидетели. И они рассказывают нам, что самые даровитые писатели из этого табунка, успевшие составить себе литературные имена, пробавлялись чужим вдохновением. Они ловили мысли и мотивы в иностранной литературе. Занимались в большинстве случаев переделками. Хорошие начетчики чужой литературы, они выдавали себя за оригинальных поэтов и мыслителей в родной. Рассчитано было на невежество. Бралось наглостью»26. Заканчивалась статья обращением к проделке Эллиса как естественному следствию нечестного поведения писателей круга «Весов»:
На самом же деле в среде этих писателей были не только плагиаторы, но просто воры.
Вот, например, г. Эллис. Его поймали с поличным в Румянцевском музее. Он вырезывал страницы из книг и уносил их тайком в своем портфеле.
Это – форменное воровство. И тем более возмутительное, что обкрадывалось национальное книгохранилище.
Что могут сказать эти Андреи Белые и Иваны Серые в защиту своего друга г. Эллиса? Послушаем27.
В этих формулировках описание эллисовского инцидента сводилось к тезису «Эллис – вор», и, что особенно важно, обокрал он «национальное книгохранилище». Таким образом, Эллис рассматривался как представитель определенной литературной корпорации, а случай в музее связывался с декадентским этосом (воплощенным сотрудниками журнала «Весы»), что влекло за собой появление оппозиции национальной культуры и пагубного западного декадентства.
Тогда же, 6 августа, появилась еще одна статья в «Русских ведомостях», посвященная делу Эллиса. Оценки в ней, по сравнению с опубликованной накануне, были расставлены уже очень четко:
В Румянцевском музее обнаружено новое хищение, производившееся в наиболее возмутительной форме, – в виде систематического вырезывания из книг отдельных страниц. Такая порча книг ничем не лучше прямого воровства их, а в некоторых отношениях даже хуже его, потому что украденная и кому-нибудь перепроданная книга все-таки продолжает выполнять свое назначение, а при благоприятных обстоятельствах может и вернуться в музей обратно, вырывать же из книги страницы это значит испортить ее безвозвратно и нанести библиотеке вред непоправимый28.
Поступок Эллиса подавался как преступление против национальной культуры (хранителем которой является библиотека):
Характерно в данном случае, что подобное воровское отношение к национальному достоянию, каковым является библиотека Румянцевского музея, позволил себе литератор, от которого можно было бы требовать уважения к библиотеке, являющейся наряду с петербургской Публичной библиотекой единственно претендующим на полноту книгохранилищем в России.
Статья носила ярко выраженный обличительный характер, а ее автор29 выступал в роли общественного судьи, взывающего к профессиональному сообществу с требованием справедливого наказания за совершенное преступление:
Такие деяния не заслуживают ни малейшего снисхождения, а потому странное впечатление производит сообщение, что администрация музея не хочет возбуждать против г. Эллиса судебное преследование, а решила ограничиться лишением его права посещать читальню музея… Тут нужен суд, а сверх того нужно и воздействие на подобных лиц со стороны самих литературных кругов; нужно, чтобы эти хищники хорошенько почувствовали, что в оценке их деяний двух различных мнений быть не может30.
Обвинение Эллиса в краже национальных богатств и общественное осуждение его поступка в программной форме было представлено в статье Н. Шебуева31 с характерным заголовком «J’ ACCUSE! (Открытое письмо администрации Румянцевского музея)»32:
Вчера газеты сообщили о возмутительном преступлении против общественной собственности, совершенном среди белого дня литератором Львом К-ским, пишущим под псевдонимом Эллис в декадентских журналах.
Он систематически вырезывал из книг библиотеки страницы, совершенно обесценивая драгоценное имущество, которое принадлежит нам, нашим детям, нашим потомкам, всем, кто пользовался и будет пользоваться знаменитою книгохранительницею.
«Русские ведомости» совершенно справедливо называют эту порчу книг прямым именем – воровство.
К-ский – вор.
И вор, дважды пойманный и дважды прощенный.
Им совершена кража на сумму свыше 300 рублей.
Его следует судить в окружном суде.
И администрация музея не имеет права прощать этого вора на следующих основаниях:
1) Потерпевшим от преступления является каждый, кто будет пользоваться отныне библиотекой. Потерпевшие – мы все, и администрация музея не может за нас «прощать» вора.
2) Еще при директоре М. А. Веневитинове тот же К-ский был пойман в том же преступлении.
Его простили.
Но можно ли прощать вора-рецидивиста!
3) К-ский не заслуживает никакого снисхождения, ибо
а) действовал не по нужде;
б) принадлежит к интеллигентному классу;
с) уже пользовался милостью администрации.
4) Простить К-скаго, значит провоцировать совершение подобных преступлений и впредь.
Безнаказанность вдохновляет.
Дурной пример заразителен.
На основании всего этого я, как один из потерпевших, так как пользуюсь услугами библиотеки музея, требую суда над Львом К-ским33.
Эта публикация в бульварной «Столичной молве» свидетельствовала о новом этапе в развитии скандала: созданный в прессе скандальный нарратив начал существовать в отрыве от реальных событий. Ядром этого нарратива стала оппозиция «он (вор) – мы (жертвы)», а основной интенцией автора статьи – защита нравственного здоровья общества от подобного рода преступников. Апофеозом развития этой темы явилась статья в «Раннем утре» (за подписью D. S.34) с громогласным заголовком «Джек-книгопотрошитель» и гиперболизированной вводной частью:
В нашей культовой сокровищнице, в публичной библиотеке Румянцевского музея, пойман «с поличным» московский декадент-литератор г. Эллис, самым варварским образом вырывавший десятки страниц книг… Уличенный в таком зулусском бесстыдстве московский Джэк-книгокромсатель – г. Эллис, оправдывался: – У меня нет времени выписывать цитаты…35
Ярко выраженная гротескность описания свидетельствовала, что история Эллиса как информационный повод себя исчерпала36.
После этого инцидент с Эллисом стал темой преимущественно стихотворных фельетонов, реальные обстоятельства дела нивелировались, а само происшествие мифологизировалось. Так, в «Газете-копейке» 8 августа появился стихотворный текст «Берегитесь!», начинавшийся строками: «Осторожней, господа! / Декадент из декадентов – / Господин Ловимоментов / Приближается сюда. // Если книги у вас есть…»37 – и заканчивавшийся словами: «Перепортит и уйдет, / Гордый славой Герострата: / Для него ничто не свято… / Берегитесь же: идет!»38. Показательно, что имя Эллиса в этом стихотворении даже не упоминалось, а его поступок лишь дополнил существовавший в массовой культуре миф о декадентах как психически нездоровых людях, любым путем стремящихся прославиться, лишенных каких-либо моральных принципов и своими действиями разрушающих литературу, культуру и общество.
Этот образ получил развитие в опубликованном на следующий день в «Раннем утре» (за подписью «Некто в черном»39) фельетоне под названием «Герострат-декадент» и с подзаголовком «(К похождениям „Эллиса“ в Румянцевском музее)». Эллис описывался как бездарный поэт, печатающийся в «Весах» и «Скорпионе», стремящийся занять место на литературном Парнасе, но до сих пор так и не признанный современниками. Ради славы он готов пойти на все, в том числе на преступление, но бдительные журналисты разоблачают его:
Никто об «Эллисе» не знал
В подлунном этом мире,
И лишь напрасно он бренчал
На декадентской лире.
Он был пиитом и в «Весах»
И в недрах «Скорпиона»,
Но не обрел, – увы и ах,
Он славы Аполлона!
<…>
О, подлым людям отплатить
В нем жаждет каждый атом!
Так нет же, этому не быть!
Он станет Геростратом!
<…>
Он много вырезал (не счесть!)
Страниц из книг различных!
Но вдруг была открыта «месть».
В газетах же столичных,
Спеша, ударили в набат,
Открывши пред народом,
Что объявился Герострат
Из декадентов родом.
И слух об «Эллисе» прошел,
Герой он стал по праву,
И «славу» тут он приобрел:
Плохую только славу!..40
И наконец, финальным аккордом газетного скандала стало сворачивание темы до бытового анекдота. Все в той же газете «Раннее утро» в рубрике «Литературный календарь» появилась заметка: «Румянцевский музей. Хранителем музея и библиотеки назначается г. Эллис»41.
Таким образом, случай с Эллисом наглядно показал, как развитие скандала на страницах газет проходило через несколько этапов, на каждом из которых публикации имели свои жанровые особенности: на первом этапе статьи носили информационный характер, сообщали о случившемся; на втором – аналитический, происшествие подвергалось оценке, обобщалось и типологизировалось; затем актуальность информационного повода терялась, уникальность события стиралась, оно становилось частью общей мифологии и, как следствие, на заключительном этапе – темой для художественно-публицистических текстов, стихотворных фельетонов и анекдотов бульварной прессы.
Попытки героя скандала самооправдаться или выступить в печати с каким-либо публичным заявлением должны были бы привести к новой волне интереса к инциденту. Однако Эллис публично выступить в свою защиту смог только через шесть дней42: 11 августа в «Русских ведомостях» было опубликовано его «Письмо в редакцию»43 с разъяснениями по поводу всего дела. Однако, как мы показали, к этому времени тема изжила себя, письмо осталось не замеченным газетами44, следствием его явились лишь несколько стихотворных фельетонов и анекдотов45. Все дальнейшие перипетии истории с музеем (а это и суд чести Общества деятелей периодической печати и литературы, и постановление Мирового суда, и публикации разъяснительных писем Эллиса в «Весах») интереса для большинства столичных газет не представляли и если упоминались, то в нейтральном хроникальном тоне46 или в контексте иных, более актуальных общественных тем47.
16
Эллис. Русские символисты. М., 1910.
17
Об истории некоторых литературных скандалов этого времени см.: Богомолов Н. А. История одного литературного скандала // Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. М., 1999. С. 237–254; Соболев А. Л. Хроника одного скандала // Соболев А. Л. Летейская библиотека: очерки и материалы по истории русской литературы XX века. Т. 2. Страннолюбский перебарщивает. Сконапель истоар. М., 2013. С. 217–240.
18
См., например, нашу работу: Глуховская Е. А. Инцидент с Эллисом в контексте русского символизма: к истории одного (около)литературного скандала // Русская литература. 2012. № 1. С. 137–148.
19
Из письма Эллиса Э. К. Метнеру: «…я сделал вырезку 2 страниц из „Симфоний“ музейских. Чиновник корректно заметил это при сдаче ему попорченного экземпляра и (зная меня 12 лет) дал мне слово ничего не говорить об этом, если я верну свежий экземпляр. Я возвратил через 20 м.<инут> и дело погасло. Через 3 недели один из членов Русского союза, мой злейший враг по лицею, написал донос во все газеты и началась травля» (ОР РГБ. Ф. 167. Карт. 7. Ед. хр. 18. Л. 1). Упоминаемый в письме лицей – Императорский лицей в память Цесаревича Николая, где Эллис в 1903–1904 и 1904–1905 учебных годах вел курс по финансовому праву вслед за проф. И. Х. Озеровым и откуда ушел после событий 9 января 1905 года (Календарь Императорского лицея в память цесаревича Николая: на 1903–1904 учебный год. М., 1904. С. 314 (Сер. 2. Год 10)). Русский союз – «Союз русского народа», черносотенная монархическая организация (1905–1917).
20
Аналогично описывала инцидент и бульварная «Газета-копейка»: «На этих днях в Румянцевском музее обнаружена систематическая порча книг литератором г. Л. К-м. Во время посещения г. К-м библиотеки один из служащих заметил, что К-й ножичком вырезывает страницы из книги и прячет их в свой портфель. При выходе из музея К-й оставил свой портфель у швейцара. Извещенное о происшедшем бюро музея потребовало этот портфель, и в нем было найдено много вырезок из библиотечных книг. Через два дня явившемуся К-ому было заявлено о том, что он занимается порчей книг. К-й сознался и объявил, что иначе ему невозможно поступать, так как время у него слишком дорого. К-ому воспрещено дальнейшее посещение библиотеки музея. Это второй случай с К-им и в этом же музее. В первый раз ему тоже был воспрещен вход, но по просьбе прив.-доц. Дена ему разрешили бывать» (Газета-копейка. 1909. № 92. 5 авг. С. 3).
21
Русские ведомости. 1909. № 179. 5 авг. С. 3.
22
Раннее утро. 1909. № 179. 5 авг. С. 3.
23
Там же. Владимир Эдуардович Ден (1867–1933) – экономист, специализировался в области экономической географии; в 1898–1902 годах преподавал на юридическом факультете Московского Императорского университета, где в это время обучался Эллис. Подробности упоминаемого в газетной статье инцидента точно не известны, но в самых общих чертах их можно восстановить по письмам Эллиса А. Белому. Вероятно, будучи студентом, Эллис унес из библиотеки какой-то экономический указатель, но благодаря посредничеству Дена официального разбирательства не последовало: «Я считал и считаю случай с Деном погашенным, Квасков [помощник библиотекаря. – Е. Г.] давал 10 раз мне слово о нем не говорить вовсе, считая его нашей частной беседой. Он четыре раза менял версии этого инцидента. Кроме этого, он клялся, что он умрет между нами, а потом сообщил в газеты… Случай был десять лет тому назад… Прочтя о нем в газетах, я даже ничего не мог вспомнить. Теперь Квасков говорит, что Ден просил вернуть „указатель“… почему же в газеты он сообщил лишь о ходатайстве» (ОР РГБ. Ф. 25. Карт. 25. Ед. хр. 31. Л. 10).
24
3 августа 1909 года в газете «Речь» (№ 210. С. 3) была опубликована заметка К. Чуковского, в которой он указывал на плагиат в статье К. Бальмонта «Певец личности и жизни. Уольт Уитман» (Весы. 1904. № 7. С. 11–32).
25
Голос Москвы. 1909. № 181. 6 авг. С. 2.
26
Голос Москвы. 1909. № 181. 6 авг. С. 2.
27
Там же.
28
Русские ведомости. 1909. № 180. 6 авг. С. 4.
29
За подписью «А. Мкс.» скрывался Александр Николаевич Максимов (1872–1941), экономист и этнограф, впоследствии заместитель главного редактора газеты. В конце ноября в «Русских ведомостях» было опубликовано его «Письмо в редакцию», в котором автор признавал неточность формулировок и поспешность выводов своей первой статьи: «В № 180 Русских ведомостей от 6‐го августа мною была помещена заметка, касающаяся порчи г. Эллисом книг из библиотеки Румянцевского музея. Заметка эта в фактической своей части была основана на хроникерских сообщениях, напечатанных накануне в большинстве московских газет, излагавших данный инцидент приблизительно одинаково, в весьма предосудительном для г. Эллиса виде, и подтверждавшихся должностными лицами музея. Как выяснилось впоследствии из разбора данного дела судом чести Общества деятелей периодической печати, эти сообщения в существенных пунктах не соответствовали действительности, так что суд не признал поступка г. Эллиса, заключавшегося, как оказалось, в вырезке двух страниц из книг А. Белого, „сознательно злонамеренным“. В виду этого я признаю употребленные мною в упомянутой заметке выражения „хищения“, „систематическое вырезывание“, „не лучше прямого воровства, а в некоторых отношениях даже хуже его“ и т. д. несоответствующими выяснившимся теперь обстоятельствам дела. А. Мкс» (Русские ведомости. 1909. № 274. 29 ноября. С. 7).
30
Русские ведомости. 1909. № 180. 6 авг. С. 4. Требования к управлению музея принять решительные меры против нарушителя настойчивее всего звучали со страниц крайне правой газеты «Московские ведомости» (1909. № 180. 6 авг. С. 1; № 181. 8 авг. С. 4; № 184. 12 авг. С. 4).
31
Николай Георгиевич Шебуев (1874–1937) – журналист, издатель, писатель; сотрудничал со многими петербургскими и московскими газетами, прославился своими «бульварными» статьями. Секретарь «Весов» М. Ликиардопуло в письме В. Брюсову особенно настаивал на привлечении Шебуева к ответственности за клевету: «Мы его [Эллиса. – Е. Г.] уговариваем, основываясь на решении музея, привлечь газетчиков (особенно Шебуева) за клевету… Не знаю, что выйдет, но наше положение здесь в течение 2–3 недель было ужасно… почти открыто называли вором, обобщая дело Эллиса и казус с Бальмонтом (Чуковский в „Речи“ обличил Бальмонта в плагиате в статье о Уитмане напечат.<анной> в „Весах“). Настроение в общем отвратительное» (ОР РГБ. Ф. 386. Карт. 92. Ед. хр. 23. Л. 3).
32
Заголовок отсылает к знаменитой статье Эмиля Золя «Я обвиняю!» («J’accuse…!», опубл.: L’Aurore. 1898. 13 янв.) по поводу «Дела Дрейфуса».
33
Столичная молва. 1909. № 71. 7 авг. С. 2.
34
Под криптонимом «D. S.» в «Раннем утре» печатался Дмитрий Сергеевич Соколов (1886—?).
35
Раннее утро. 1909. № 181. 8 авг. С. 4.
36
8 августа также вышла статья Е. Янтарева (Е. Бернштейна) «Господин Эллис» (Голос Москвы. 1909. № 181. 8 авг. С. 2). Несмотря на то, что в статье приводилась достоверная информация о событии и повторялись «заветные» слова «кража» и «национальный» («возмутительный для культурного человека факт порчи книг и кражи целых страниц из национального книгохранилища»), публикация Янтарева имела очень личный характер, объектом ее являлся не инцидент в музее, а Эллис как человек и литератор. Именно поэтому, вероятно, статья вызвала наибольшее возмущение Эллиса и стала предметом рассмотрения в суде чести Общества деятелей периодической печати и литературы (подробнее см.: Глуховская Е. А. Указ. соч.).
37
Стихотворение отсылает к известной сатирической песне Беранже («Monsieur Judas», 1815) в переводе В. Курочкина («Господин Искариотов»; впервые опубликована в 1861 году в «Искре», № 38). Ср.: «Тише, тише, господа! / Господин Искариотов, / Патриот из патриотов – / Приближается сюда» (Мастера русского стихотворного перевода / Вступит. статья, подг. текста и прим. Е. Г. Эткинда. Л., 1968. Т. 2. С. 27).
38
Газета-копейка. 1909. № 94. 8 авг. С. 3.
39
Такой псевдоним использовал журналист, поэт и фельетонист Родион Абрамович Менделевич (1867–1927).
40
Раннее утро. 1909. № 182. 9 авг. С. 4.
41
Раннее утро. 1909. № 187. 15 авг. С. 6.
42
Как утверждает А. Белый, Эллис был так увлечен написанием книги «Русские символисты», что первые дни ничего не знал о происходящем вокруг его имени. Когда же узнал, требовать от газет опубликовать опровержение было уже поздно, попытки повлиять на ситуацию через знакомых журналистов также успеха не имели (Белый А. Между двух революций. М., 1990. С. 331). Сам Эллис в письме А. Белому сообщал: «Я писал оправдания с третьего дня, но сплоченные газеты не напечатали их. Теперь среди газетчиков нашлись мои союзники» (ОР РГБ. Ф. 25. Карт. 25. Ед. хр. 31. Л. 7).
43
Русские ведомости. 1909. № 183. 11 авг. С. 5.
44
Единственным изданием, перепечатавшим его, были «Московские ведомости» (1909. № 184. 12 авг. С. 4).
45
Например, фельетон «Чтение ножницами» (Раннее утро. 1909. № 183. 11 авг. С. 2), басня «Эллис и книга» в газете «Новая Русь» (Новая Русь. 1909. № 222. 15 авг. С. 3), приведенный выше анекдот в рубрике «Хроника».
46
Например, заметка из «Биржевых ведомостей» от 21 августа: «Вчера особая комиссия при Румянцевском музее совместно с г. Эллисом установила, что из библиотеки попорчены только две книги, которые придется вновь переплести и вставить вырванные листы. С г. Эллиса было взыскано на переплет 90 копеек. О поступке г. Эллиса решено довести до сведения судебной власти» (Биржевые ведомости. 1909. № 11271. 21 авг. С. 2).
47
Как, например, в статье из «Голоса Москвы» от 11 ноября, которая посвящена Румянцевскому музею и существовавшим там проблемам. Случай с Эллисом ставился в один ряд с другими громкими музейными процессами, в том числе кражами гравюр (Голос Москвы. 1909. № 259. 11 нояб. С. 2).