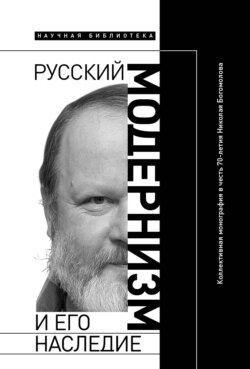Читать книгу Русский модернизм и его наследие. Коллективная монография в честь 70-летия Н. А. Богомолова - Группа авторов - Страница 7
Часть I
У истоков русского модернизма
Ольга Купцова (Москва)
ЖЮЛЬ ПАТУЙЕ И РОССИЯ
ОглавлениеИмя Жюля Филиппа Эжена Патуйе (1862–1942)116, почетного профессора русского языка и литературы филологического факультета Лионского университета, историка права и историка театра, переводчика, автора первой и единственной монографии об А. Н. Островском на французском языке (и – единственной монографии об Островском не на русском языке), известно в основном узкому кругу европейских славистов и отечественных островсковедов. Однако, быть может, стоит присмотреться пристальнее к этому человеку, ставшему в силу своей должности директора Французского института в Петрограде свидетелем Первой мировой войны и революции 1917 года в России.
Патуйе родился в Монтели (Бургундия, Кот-д’Ор), учился в дижонском лицее, затем там же в университете на филологическом факультете, который закончил в 1890 году (со званием агреже по французской литературе)117. В университете занимался древними литературами и французской литературой XVII века, исследовательский интерес к которой у Патуйе оставался и позже, вплоть до середины 1920‐х годов.
После окончания университета получил место в лицее Мишле в Париже. Параллельно с преподаванием, уже в зрелом возрасте, в преддверии своего сорокалетия, Патуйе поступил к Полю Буайе в Институт восточных языков, который закончил в 1902 году с дипломом по русскому языку и литературе. Патуйе принадлежал к той плеяде учеников Буайе (Л. Леже, А. Лирондель и др.), которая была отмечена в России в начале 1910‐х годов как заметное «новое и любопытное явление» – французские «rousissant’ы» (первые профессионально подготовленные специалисты в области русского языка и литературы)118.
В течение следующих лет Патуйе несколько раз приезжал в Россию для изучения русской географии, быта, языка119. В этих путешествиях он побывал в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Казани120. Поездки в Россию Патуйе использовал прежде всего для подготовки своей диссертации «Островский и его бытовой театр» (которую он успешно защитил в ноябре 1912 года под руководством Поля Буайе в Институте восточных языков).
Патуйе работал в русских библиотеках, архивах, получал консультации коллег (филолога С. А. Венгерова, историка Н. И. Кареева, казанского профессора-географа П. И. Кротова). Дочь А. Н. Островского М. А. Шателен предоставила Патуйе возможность познакомиться с личной библиотекой драматурга, которая, впрочем, не произвела большого впечатления на французского исследователя. «Библиотека его <…> не представляла собой книжного богатства, собранного ученым или любителем; но все классики театра, начиная с древних, как русские, так и иностранные, были в ней представлены…»121, – писал он впоследствии.
В это время у Патуйе завязались и некоторые литературные знакомства в России. В частности, сохранилось несколько писем Патуйе А. М. Ремизову122. В первом из них от 29 августа 1911 года Патуйе благодарит Ремизова за присылку тома рассказов («весьма интересных и оригинальных по сюжетам и по языку»123) и сожалеет о том, что они разминулись во время пребывания Ремизова в Париже. В следующем письме от 8 июня 1912 года Патуйе приглашает Ремизова в гости в Париж, в свой дом, «где всегда рады русским»124, и пишет, что как только выйдет его диссертация, он пришлет ее Ремизову. Но полагает, что его научный труд не доставит Ремизову столько удовольствия, сколько ему самому доставили ремизовские рассказы. Патуйе предлагает Ремизову выбрать рассказы для перевода и публикации в каком-нибудь французском журнале. И признается, что у него есть семь томов собрания сочинений Ремизова, вышедшего в издательстве «Шиповник», но он мечтает получить последний, восьмой: «Вы также написали том драматических сочинений, религиозных и светских: это чтение меня живо интересует, но у меня нет тома»125.
Знакомство Патуйе и Ремизова состоялось в начале осени 1912 года и, вернувшись в Париж, Патуйе отправил третье (последнее из сохранившихся) письмо Ремизову с более развернутой характеристикой его творчества:
Спешу Вас благодарить, многоуважаемый писатель-художник, за присланный VIII том Ваших сочинений. Как только освобожусь от разных хлопот, которых много в начале учебного года, и от защит диссертаций, я примусь за чтение или за второе чтение прежних томов и, вероятно, в виду рецензии в одном журнале, я позволю себе обращаться к Вам с просьбой сообщать мне некоторые биографические и авторские данные.
С большим удовольствием вспоминаю наше первое свидание и твердо надеюсь, что весной удастся возобновлять здесь интересные беседы о Ваших литературных трудах. Очень мне нравится Ваша любовь ко всему старинному чисто русскому быту.
Были когда-то в России так называемые «почвенники», но я чувствую, что Вы глубже и вернее проникаете в истинно коренной дух святой Руси. Желаю Вам полного успеха. Прошу Вас передать Вашей супруге мой низкий поклон и сердечный привет от жены. Еще спасибо за вкусное яблоко. У нас Вы попробуете бургундское вино из собственных виноградников.
Душевно Вам преданный J. Patouillet126.
Работая над диссертацией в 1910–1912 годах, Патуйе опубликовал статью «Русский театр до 1850 года»127, которую затем развернул в отдельное исследование «Бытовой русский театр от истоков до Островского (1672–1850)»128, представлявшее не только вступление к диссертационной теме, но и самостоятельный сюжет для второй диссертации (историю одной – «бытовой», как ее обозначал автор, – линии русского театрального искусства: от театра при дворе царя Алексея Михайловича до начала драматургической деятельности Островского). Книга вышла в серии «Библиотека Французского института в Санкт-Петербурге» и была первым изданием в ней.
До защиты диссертации и некоторое время после нее (с января 1912 года по январь 1913-го) Патуйе жил в Варшаве, где не только изучал польский язык, но и общался с русскими профессорами-филологами Варшавского университета (в частности, с литературоведом И. И. Замотиным).
Выход книги Патуйе об Островском на французском языке в Париже вызвал резонанс в русских научных кругах129. На эту научную монографию в 1912–1914 годах появилось около полутора десятка рецензий130, не считая упоминаний труда Патуйе в статьях на близкие темы. Широта затронутых Патуйе проблем, методологическое разнообразие, пограничность объекта исследования (литература – театр – жизнь), лавирование между академическим и научно-популярным подходами – все это вместе взятое, по-видимому, и вызвало бурную реакцию русских литературных и театральных кругов. Рецензии на эту книгу напечатали петербургские, московские, варшавские издания: литературные – от «Русского богатства» до «Аполлона», театральные – «Ежегодник императорских театров», «Театр и искусство», академические – «Русский филологический вестник», «Журнал Министерства народного просвещения». В обсуждении приняли участие филологи, историки, историки театра, театральные критики, публицисты.
В большинстве рецензий заметны были неприкрытая зависть и удивление, что такую книгу написал не соотечественник (подобной монографии об Островском на русском языке еще не существовало), и высказывалось пожелание в скорейшее время перевести ее на русский язык. Эхо резонансного научного события докатилось до юбилейных торжеств по поводу столетия со дня рождения А. Н. Островского в 1923 году, во время которых не однажды вспоминали о «громадном, обстоятельном и прекрасном труде» французского слависта131. Г. Т. Синюхаев в предисловии к «Трудам и дням Островского», первой летописи жизни и творчества драматурга, писал: «11 лет тому назад (в 1912 г.) появилась в Париже книга J. Patouillet „Ostrowsky et son théâtre de moeurs russe“. Знакомство с ней побудило меня сначала перевести ее на русский язык (перевод не был издан), а затем приняться за подготовительную работу к созданию русской книги, достойной имени А. Н. Островского»132.
Книга Патуйе была переведена как минимум дважды (второй раз в 1930‐х годах М. А. Скворцовым для ВТО под названием «Жизнь Островского»), но на русском языке так и не была издана133. И для последующих поколений исследователей Островского, уже не владеющих французским языком, оказалась практически недоступной и неоткрытой.
В 1913 году Патуйе опубликовал статью «Два последних дня Екатерины Второй»134, в которой он впервые вышел за рамки истории русской литературы и театра.
В октябре 1913 года Патуйе был назначен директором Французского института в Санкт-Петербурге на смену Луи Рео, искусствоведу и также ученику Буайе, возглавлявшему институт с момента его возникновения в 1911 году135. И к концу месяца Патуйе приезжает в Россию. В письме историку С. Ф. Платонову Патуйе сообщил о начале занятий на своих петербургских курсах французского языка с 30 октября 1913 года136. С осени 1913 года и до начала 1919‐го Патуйе был директором Французского института в Петербурге/Петрограде, а затем, с переездом советского правительства в новую столицу, совсем недолго и в Москве.
Патуйе оказался в России в не самое благоприятное время для международного сотрудничества в области образования и науки. И тем не менее Французский институт функционировал все это время без перерыва137. Педагогическая, организационная и культурно-просветительская деятельность Патуйе в России в 1913–1919 годах еще ждет подробного, в том числе и архивного изучения138.
Летом 1914 года, в еще довоенное время, Патуйе уехал в отпуск во Францию. 14 июля он был принят в кавалеры Ордена Почетного легиона. А после начала войны, 12 (25) октября 1914 года, второй раз выехал в Петроград. Через линию фронта Патуйе добирался из Парижа до российской столицы одиннадцать дней.
Сразу по приезде Патуйе отправил письмо-отчет своему учителю Буайе (поначалу письма посылались регулярно, раз в неделю, по-видимому, это были официальные отчеты, так как они сохранились в архиве Института восточных языков). В числе его первых уже военных острых впечатлений – театральные:
Театры открыты: опера, драма, балет. Я захотел послушать – в качестве урока – пьесу Островского в Александринском театре: там была обычная публика, предававшаяся без угрызений совести благопристойному развлечению. Что касается маленьких сцен, театров в кафе, то они не существуют: их превратили в лазареты.
Говорят даже, что французская труппа, набранная неизвестно где и как, играет в Михайловском театре. Я думаю, что во Франции сейчас нет другого театра, кроме театра боевых действий: вся Франция – актриса или зрительница, участвующая своими действиями или мыслями в драме, в которой решаются наши судьбы. Одна мысль о развлечениях нас шокирует. Здесь же нужно приспосабливать свои взгляды к другим нравам и реалиям139.
Текущие дела, связанные с Французским институтом, а также с деятельностью Альянс Франсез, почти совсем не оставляли Патуйе времени на занятия наукой140. В это время Патуйе публиковал во французских изданиях совсем другие статьи, касающиеся войны и проблем военного времени, такие как «Русская армия и русский солдат»141.
Тем не менее петроградские литературные и театральные связи Патуйе расширялись. По-видимому, в связи с подготовкой «Грозы» в Александринском театре к Патуйе обратился за консультацией В. Э. Мейерхольд (письмо не сохранилось). В ответном письме от 14 октября 1915 года Патуйе пишет:
…я очень тронут присылкой уже вышедших номеров Вашего журнала142 и обязательно прочту их с тем вниманием, которого они достойны. Правда, я сейчас не особенно много занимаюсь русским театром и его историей, но продолжу изучение этой области, несколько прерванное войной. Во Франции работы научного и критического плана также приостановлены из‐за войны, мобилизовавшей и поставившей всех под свои знамена. Вы можете быть уверены, что я всегда при случае буду сообщать о тех французских книгах, которые имеют отношение к кругу тем Ваших публикаций143.
Возможно, Мейерхольд был также и инициатором приглашения Патуйе на вечера, проходившие у барона Н. В. Дризена. 7 марта 1916 года Патуйе ответил на приглашение Дризена выступить в очередную среду с лекцией:
Посылаю Вам план и краткое содержание лекции, которую Вы так любезно предложили мне прочесть у Вас, и буду счастлив, если лекция окажется достойна интереса избранной публики, собирающейся на Ваших вечерах. Это глава „внешней“ истории одного из шедевров русского театра144.
Лекция Патуйе «„Гроза“ Островского на французской сцене (8 марта 1889 года). Островский во французской литературе до 1889 года» состоялась на одной из дризеновских сред 16 марта 1916 года. Сообщение об этом было напечатано в разделе «Хроника» мейерхольдовского журнала «Любовь к трем апельсинам», где был приведен и план лекции по-французски:
1. Обстоятельства, при которых «Гроза» была представлена в Париже. – Спектакль: провал. 2. Причины этой неудачи: а) ошибки в сценическом исполнении, которые исказили характер произведения; b) недостаток у французской публики сведений о русской жизни и обиходе; c) сам выбор произведения; d) критика (Франсис Сарсэ, Жюль Леметр, г-н де Вогюэ), ее справедливые и ошибочные суждения. 3. Поиск наиболее подходящих средств для облегчения знакомства французской публики с русским театром; в частности, с каких произведений Островского следовало бы начать такое ознакомление145.
Через пару недель после лекции Патуйе пишет Дризену:
Возвращая прекрасный том, присланный Вами, я благодарю еще раз за подарок, который Вы мне сделали, сообщив, что воспоминание о моей лекции на Ваших вечерах сохраняется. Мне всегда будет приятно вспоминать, что я нашел у Вас образ тех Бесед146, которые составляли одно из очарований русской интеллектуальной жизни в прошлом и оказали важное влияние на развитие национальной литературы.
Размышляя о нашем утреннем телефонном разговоре, я подумал, что Вы могли бы, наверное, нанести ответный визит господину Дульсе147, французскому посланнику, который посетил Вас в прошлую среду. Он – человек, одаренный литературно, и, придя меня послушать, был счастлив обнаружить интерес публики к Вашим интеллектуальным вечерам. Что касается меня, я буду горд, если Вы скажете ему, что писатели и критики, Ваши соотечественники, обратили внимание на мои работы о литературе страны, которую я глубоко люблю148.
Лето 1916 года Патуйе провел по обыкновению во Франции (несмотря на все сложности путешествия в военное время). И, вернувшись в Петроград, 14/27 ноября он пишет Дризену:
По возвращении я нашел приятный сюрприз с дружеским посвящением, прекрасную книгу Сорок лет театра149, плоды воспоминаний, собранные во время карьеры, достаточно долгой и в высшей степени созидательной как для автора, так и для истории русского театра. Искренне благодарен Вам за то, что Вы прислали мне этот том, изданный с тонким художественным вкусом, в котором я узнал Ваш собственный; очень надеюсь продолжить чтение, находя на многих страницах нужные сведения для моих исследований.
Мы возвратились из Франции чуть больше двух недель назад после чрезвычайно долгого путешествия по Северному морю. Мы оставили Францию полной мужества, решимости и веры150.
Стиль писем Патуйе (пишет ли он по-французски или по-русски) – стиль не только дипломата, но человека, воспитанного девятнадцатым столетием, безукоризненно вежливого, неизменно доброжелательного и несколько старомодного.
23 мая 1916 года в Париже было учреждено общество «Франция – Россия»: Патуйе назначили генеральным представителем Комитета общества в России. Среди членов оргкомитета с русской стороны значились коллеги-филологи и хорошие знакомые, с которыми Патуйе поддерживал тесные отношения: С. А. Венгеров, Н. К. Пиксанов, Н. С. Державин.
Помощницей в организационных делах Французского института и общества «Франция – Россия» взамен призванных на фронт коллег стала жена Патуйе – Луиза (называвшая себя в России, как и муж, на русский манер Луизой Францевной). Она поддерживала деловую и дружескую переписку по-французски и по-русски, с октября 1916 года по август 1918‐го постоянно вела дневник151.
Революционные события в Петрограде семья Патуйе переживала вместе с русскими коллегами и друзьями, полностью разделяя трудности времени.
В это время семью Патуйе связывали дружеские отношения с семьей Ф. К. Сологуба и А. Н. Чеботаревской: об этом свидетельствуют письма Ж. и Л. Патуйе к Чеботаревской152. Письма неофициальны, наполнены семейными подробностями (в частности, тревогой за сына Луи, который находился в действующей армии) и бытовыми подробностями. Так, в марте 1917 года Патуйе пишет Чеботаревской:
Я позволю себе обратиться к Вам, зная Вашу любезность, «по поводу ботинок» или, если быть точнее, «по поводу галош». Этого вида товара теперь не найти: во всех витринах читаем безнадежное объявление: «Мужских калош нет». Некоторые счастливцы, с помощью сомнительных личностей, приобретают пару галош в полтора раза дороже: это чудо. Мне говорили, что в Кооперативе журналистов есть все и что, может быть, найдутся даже калоши. Я слишком незначительный журналист, чтобы просить пай, но, зная Вашу доброту, я беру на себя смелость обратиться к Вам с двумя просьбами. Не могли бы Вы позвонить в кооператив журналистов, чтобы узнать, есть ли там еще пресловутые калоши? Если да, не найдете ли Вы возможным передать мне пай Федора Кузьмича, чтобы сделать эту покупку? Если ответят нет, не подскажете ли Вы мне какой-нибудь другой выход из этой ситуации?
Кланяюсь и благодарю заранее, прошу Вас передать Федору Кузьмичу (восхищен его статьей «Нувориши»!) мой самый сердечный привет153.
В августе 1917 года, не уехав, как обычно, летом в отпуск во Францию, Ж. и Л. Патуйе провели две недели на даче у Сологубов в Костромской губернии. По возвращении Луиза Францевна отправила подробный отчет об обратной дороге и петроградской ситуации, а Жюль Патуйе сделал приписку по-русски:
Многоуважаемая Анастасия Николаевна и Федор Кузьмич!
Только что вернувшись в Петроград, вспоминаем с благодарностью о проведенных у Вас двух неделях, о Вашем радушном приеме, о наших беседах на террасе, о прогулках. Все это какой-то прекрасный сон! А все-таки мы его видели наяву.
Привет Волге, привет Вам от преданного Patouillet154.
В тяжелом 1918 году Патуйе участвовал в литературной жизни Петрограда. В частности, известно, что он входил в оргкомитет книжного кооператива «Петрополис»155.
Летом 1918 года Французский институт вслед за другими государственными учреждениями переехал в новую столицу – Москву. И сразу же включился в московскую культурную жизнь. В ноябре Патуйе принял участие в юбилейных торжествах по случаю столетия со дня рождения И. С. Тургенева, устроенных Обществом любителей российской словесности при Московском университете. 30 ноября 1918 года Патуйе пишет А. Е. Грузинскому, председателю Общества:
Милостивый Государь
Алексей Евгеньевич,
в ответ на любезное предложение Французскому Институту принять участие в торжествах, организуемых Обществом Любителей Российской словесности в память И. С. Тургенева, по случаю исполняющегося столетия со дня его рождения, спешу Вам сообщить от имени Французского Института, что я сочту большой честью отозваться на Ваше приглашение и от культурной Франции, лишенной в настоящее время возможности отправить своих представителей, приветствовать великого писателя, литературная деятельность которого тесно связана с Францией и так много способствовала духовному общению и взаимному пониманию между нашими двумя странами.
Примите уверения в моем глубоком уважении,
Ю. Кл. Патуйе,
директор Французского Института156.
Юбилейные заседания прошли 9–11 ноября 1918 года. Доклад Патуйе о Тургеневе и Франции был сделан 10 ноября. В следующий, последний день торжеств Патуйе не смог присутствовать на заседании, о чем сообщил П. Н. Сакулину:
Многоуважаемый Павел Никитич!
Очень сожалею, что утомление и некоторые неотложные дела помешали мне присутствовать на последнем заседании в память Тургенева. Я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы могли мне предоставить один экземпляр отчета об этих заседаниях.
Позвольте мне через Ваше посредство выразить мою глубокую благодарность Обществу Любителей Российской словесности за тот горячий прием, который в моем лице был оказан моей родине. Этот благодарный порыв, высказавшийся в шумных аплодисментах по адресу моего доклада и по моему адресу, поймут во Франции как выражение симпатии к стране, где русская литература не переставала пользоваться заслуженным успехом и всегдашним внимание и расположением…157
В начале 1919 года Французский институт в России был расформирован, и Патуйе по приказу французского правительства вернулся на родину. 28 июня 1919 года он выступил в Марселе (под патронажем Географического общества) с докладом о современной России в паре с эмигрировавшим во Францию историком М. И. Ростовцевым158.
В феврале 1920 года в Париже состоялось организационное собрание Русской академической группы, в которую с русской стороны входили Е. В. Аничков, П. П. Гронский, М. И. Ростовцев, Ю. В. Семенов и др., с французской стороны ее поддержали слависты Буайе (в то время директор Института восточных языков), Патуйе и профессор русского языка в Сорбонне Эмиль Оман. В рамках деятельности Русской академической группы Патуйе опубликовал статью об интеллектуальных связях России и Франции159.
В это же время Патуйе поручена организация Французского института в Праге. Он уезжает на год и возвращается во Францию с целью продолжить свою научную карьеру в Лионе, где начинает читать курс русского языка и литературы, возглавляет и развивает изучение других славянских языков – польского, чешского, сербского и хорватского.
В 1922 году на короткое время Патуйе возвращается к изучению истории русского театра и печатает аналитический обзор библиографии по этой теме160. В том же году он публикует статью на французском «Мольер и его судьба в России»161, которая позже выходит на русском языке отдельным изданием162.
В 1923 году в связи со столетием со дня рождения А. Н. Островского московское Общество любителей российской словесности избрало Ж. Патуйе своим почетным членом. Только через год Патуйе смог передать благодарственное письмо новому председателю Общества П. Н. Сакулину:
Париж 15 июня 1924 г.
Господин Президент и глубокоуважаемый коллега!
Вы сообщили о решении Общества любителей российской словесности, единогласно присудившего мне звание почетного члена Общества по случаю празднования столетия со дня рождения А. Н. Островского.
Прошу Вас стать моим посредником и выразить Обществу мою глубокую признательность; со своей стороны, я обещаю использовать оказанную честь как стимул для развития во Франции интереса ко всему русскому. Я приложу усилия для совершенствования преподавания русского языка и литературы в Лионе. Если мне не удалось принять персональное участие в торжествах по поводу столетней годовщины Островского и добавить свою дань уважения к его уже непоколебимой славе, как я сделал это с почтением и радостью у вас под эгидой вашего Общества во время чествования великого Тургенева в 1918 году, – то я по меньшей мере посвятил несколько страниц личности и творчеству великого драматурга в одном из самых важных современных французских журналов La Vie des Peuples в майском номере 1923 года.
Позвольте мне передать в библиотеку Общества любителей российской словесности со словами уважения и благодарности мою скромную статью о Мольере в России. Она неполна, но ожидаю, что с вашей помощью я смогу ее дополнить; моя статья вызвана желанием пролить свет на все, что может обнаружить или создать связи между нашими двумя великими народами.
Замечательный коллега, профессор Лазарев, вызвался передать Вам это письмо, чего, к сожалению, нельзя было сделать раньше.
С большими извинениями по поводу невольного опоздания, я прошу принять Вас лично, господин Президент и глубокоуважаемый коллега, а также передать коллегам из Общества любителей российской словесности, мой горячий привет, мою искреннюю благодарность и мои сердечные пожелания процветания Обществу любителей российской словесности.
Жюль Патуйе.
Профессор русского языка и литературы в Лионском университете.
Директор Французского института в России163.
В 1926 году Патуйе выступил одним из оппонентов (два других – Эмиль Оман и Андре Мазон) на защите первой русской докторской диссертации по гуманитарным наукам в Париже П. Е. Ковалевского164. Тема диссертации («Н. С. Лесков как недооцененный бытописатель русской жизни») была близка по тематике и научному подходу самому Патуйе.
В основном же в этот период Патуйе занят далекой от театра и литературы работой, в течение нескольких лет он переводит и публикует трехтомный «Свод законов Советской России»165.
В 1927 году Патуйе снова на несколько месяцев смог приехать в Россию. Здесь он ненадолго возвращается к русскому XVIII веку, объединив свой интерес к русскому театру и к истории русско-французских интеллектуальных связей в статье «Письма Вольтера к Сумарокову»166. 25 августа 1927 года читает доклад «Мольер в России» в Пушкинском доме167.
В 1929 году Патуйе написал к труду историка П. Шапле «Семья в Советской России» предисловие, для которого ему пригодилось знание традиционных русских семейных отношений, впервые описанных им в книге об Островском168.
В том же году Патуйе в последний раз обратился к творчеству Островского во французской статье «Островский о драматическом искусстве»169, в сокращенном варианте он посылает ее также в Москву для сборника в честь П. Н. Сакулина (сборник вышел лишь в 1931 году, после смерти Сакулина). В ней Патуйе обнаруживает знакомство со свежими юбилейными (1923–1924) изданиями по творчеству Островского (работами Н. К. Пиксанова, Б. В. Томашевского, сборником «Новые материалы» под редакцией М. Д. Беляева и др.)170.
В 1932 году Патуйе уходит в отставку, однако продолжает вести исследовательскую работу. В частности, он публикует в юбилейном пушкинском номере журнала французских компаративистов в 1937 году статью «Пушкин и Мольер»171. По-видимому, эта статья оказалась последней публикацией Патуйе.
28 октября 1942 года Патуйе умирает в своем доме на юге Франции в Вольне. Его некролог из‐за военного времени вышел только спустя полтора года.
Судьба архива Патуйе остается неизвестной. Всплывшая машинописная копия дневника Луизы Патуйе, которая находится сейчас в Институте Гувера, позволяет предположить, что существовала (или существует) и другая часть собрания (возможно, она находится в частных руках), в которой могли сохраниться важные документы, в частности, письма русских корреспондентов, книги с дарственными надписями и др. Сюжет, как кажется, не закрыт.
116
Варианты написания этой фамилии в русских источниках разнообразны: Патулье, Патульэ, Патуйэ. Сам Жюль Патуйе в России иногда именовал себя по-русски Юлием и добавлял отчество – Клавдиевич.
117
Здесь и далее биографические сведения о Ж. Патуйе без дополнительных указаний даются по некрологу: Ehrard M., Mazon A. Nécrologie. Jules Patouillet // Revue des etudes slaves. 1944. T. 21. P. 179–183.
118
Б. а. Рец. на кн.: Patouillet. Ostrovski et son théâtre de moeurs russes. Deuxième ed. Paris. (Plon-Nourrit), 1913. Стр. XI+81 c. Ц. 10 фр. // Русское богатство. 1913. № 6. С. 349.
119
Превосходное владение русским языком отмечали позже многие рецензенты книги Патуйе об Островском. «Г. Патуйе, очевидно, прекрасно знает русский язык, и не только книжный: он приводит массу чисто русских слов и выражений, усвоить которые можно лишь путем живой речи» (Кашин Н. П. А. Н. Островский во французской литературе // Журнал Министерства народного просвещения. 1915. № 11. С. 59).
120
О своем путешествии по Волге (от Нижнего Новгорода до Казани) 13 марта 1902 г. Патуйе сделал доклад в Географическом обществе Лилля. См.: Patouillet J. Voyage dans l’Est de la Russie d’Europe: Nijni Novgorod et Volga, Kazan et les populations allogènes // Bulletin de la société de géographie de Lille. 1902. № 5. P. 328. Патуйе частично повторил маршрут 1898 г. известного французского путешественника Поля Лаббе, возглавлявшего Географическое общество Лилля (см.: Лаббе П. По дорогам России. От Волги до Урала. М., 2017).
121
Патуйе Ж. О драматургической технике Островского // Памяти П. Н. Сакулина: Сб. статей. М., 1931. С. 197.
122
ОР РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 168. Л. 1–4.
123
Там же. Л. 1.
124
Там же. Л. 2.
125
Там же. Л. 3.
126
Там же. Л. 4–4 об. Письмо написано по-русски.
127
Patouillet J. Le théâtre russe jusqu’en 1850 // Revue de synthèse historique. 1912. T. XXIV. Vol. 2. P. 197–215.
128
Patouillet J. Le théâtre de moeurs russes: des origines à Ostrovski (1672–1850). Paris: Champion, 1912. (Collection: Bibliothèque de l’Institut français de Saint-Petersbourg, t. 1.) Работа была посвящена Эрнесту Дени, профессору Парижского университета по кафедре литературы.
129
См. подробнее об этом: Купцова О. Н. Жюль Патуйе: французский исследователь творчества А. Н. Островского в зеркале русской критики // Русская литература в зеркалах мировой культуры: рецепция, переводы, интерпретации. М.: ИМЛИ РАН, 2015. С. 425–456.
130
Гиляровская Н. Рец. на кн.: J. Patouillet. Ostrovski et son théâtre de moeurs russes. Paris, 1912 // Голос минувшего. 1913. № 5. С. 261–262; Б. а. Рец. на кн.: Patouillet. Ostrovski et son théâtre de moeurs russes… // Русское богатство. 1913. № 6. С. 349–350; Homo novus [Кугель А. Р.] Французский труд об Островском // Театр и искусство. 1913. № 30. 28 июля. С. 599–602; Л. Н. [Лернер Н. О.] Рец. на кн.: J. Patouillet. Ostrovski et son théâtre de moeurs russes. Париж, 1912 // Вестник Европы. 1913. № 9. С. 385–387; Батюшков Ф. Д. Бытовой театр Островского в освещении французского ученого. J. Patouillet. Ostrovski et son théâtre de moeurs russes. Paris, Plon, 1913 // Журнал Министерства народного просвещения. 1913. Сентябрь. Ч. XLVII. С. 163–169; Г-ъ [Гинс Г. К.] J. Patouillet. Ostrovski et son théâtre de moeurs russes. Paris, 1913 // Исторический вестник. 1913. № 10. С. 345–347; Морозов П. Рец.: J. Patouillet. Ostrovski et son théâtre de moeurs russes. Paris, Plon, 1912 // Ежегодник императорских театров. 1913. Вып. 6. С. 154–159; Долгов Н. Рец.: J. Patouillet. Ostrovski et son théâtre de moeurs russes // Аполлон. 1914. № 1–2. С. 154–155; Он же. Французский труд об Островском // Речь. 1913. 18 ноября. № 316. С. 2; Кашин Н. П. А. Н. Островский во французской литературе // Журнал Министерства народного просвещения. 1915. № 10. С. 318–349; № 11. С. 37–61; Кареев Н. Patouillet. Ostrovski et son théâtre de moeurs russes // Русские ведомости. 1913. 30 янв. № 25. С. 5; Замотин И. И. Patouillet. Ostrovski et son théâtre de moeurs russes. Paris, 1912 // Русский филологический вестник. 1913. № 2. С. 509–511; Тимченко Е. Patouillet. Ostrovski et son théâtre de moeurs russes. Paris, 1912 // Там же. С. 512–514.
131
Фомин А. А. Связь Островского с предшествующей драматической литературой // Творчество Островского. М.; Пг., 1923. С. 3.
132
Труды и дни Островского / Сост. Г. Т. Синюхаев // Островский. Новые материалы. Письма. Труды и дни. Статьи. Л., 1924. С. 303.
133
В фонде ВТО хранится рукописный перевод двух диссертаций Ж. Патуйе, который, судя по всему, предназначался для внутреннего пользования, а не для издания (Патуйе Ж. Русский бытовой театр от его истоков до Островского. Ч. 1–2 / Пер. М. А. Скворцова. [Не позднее 1941 г.] (РГАЛИ. Ф. 970. Оп. 9. Ед. хр. 185–186); Патуйе Ж. Жизнь Островского. Ч. 1–7 / Пер. М. А. Скворцова. [Не позднее 1941 г.] (РГАЛИ. Ф. 970. Оп. 9. Ед. хр. 187–193)).
134
Patouillet J. Les deux derniers jours de la vie de Catherine II // Marches de l’Est. 1913. Octobre. P. 645–655.
135
О деятельности Л. Рео во Французском институте в Санкт-Петербурге см.: Medvedkova O. «Scientifique» ou «intellectuel»? Louis Réau et la création de l’Institut Français de Saint-Pétersbourg. URL: http://monderusse.revues.org/72?file=1.
136
Письмо от 27 октября 1913 г. (ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ед. хр. 5148. Л. 1).
137
См. об этом: Rhjéoutsky Vl. S. L’Institut Français: L’Histoire de l’Institut Français. URL: htpp://www.ifspb.com/fr/page/php?10.
138
Официальные отчеты Патуйе и его письма к П. Буайе этого времени хранятся в фонде парижского Института восточных языков (Archives Nationales. 62 AJ / 61, 62, 66, 67, 69).
139
Письмо от 29 окт. – 4 ноября 1914 г. (Archives Nationales. 62 AJ / 61).
140
Так, в ноябре 1914 г. в Альянс Франсез Патуйе выступал на тему «Франция при встрече с войной». Сбор от лекции должен был поступить в фонд помощи, организованный французской колонией Петрограда раненым воинам русской армии (URL: http://www.cultfine.ru/cfons-597–2.html).
141
Patouillet J. L’armée et soldat russe // Foi et vie. Cah. B. 1915. № 14. 1–16 septembre.
142
Имеется в виду «Любовь к трем апельсинам. Журнал Доктора Дапертутто». К этому времени вышли семь номеров журнала за 1914 г. и один номер (№ 1–2-3) за 1915 г.
143
РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1. Ед. хр. 2167. Л. 1.
144
ОР РНБ. Ф. 263. Ед. хр. 350. Л. 3.
145
Цит. по: «Любовь к трем апельсинам» (1914–1916): В 2 т. СПб., 2014. Т. 2. С. 400–401.
146
«Беседы любителей русского слова», проходившие в Петербурге в доме Г. Р. Державина в 1811–1816 гг.
147
Дульсе Мари-Огюстен-Жан (1865–1928) – французский дипломат. С 1912 по 1918 г. французский посланник в России.
148
ОР РНБ. Ф. 263. Ед. хр. 350. Л. 1–1 об.
149
Речь идет о кн.: Дризен Н. В. Сорок лет театра. Воспоминания. 1875–1915. СПб., 1915.
150
ОР РНБ. Ф. 263. Ед. хр. 350. Л. 2–2 об.
151
Hoover Institution Archives, Stanford. MS K264.8 P313. См.: Rappaport H. Caught in the Revolution: Petrograd, Russia, 1917 – A World on the Edge. St. Martin Press, 2017. P. XXI, 61.
152
РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 5. Ед. хр. 200. Л. 1–8 (письма 1915–1917).
153
РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 5. Ед. хр. 201. Л. 1. Письмо на французском языке; курсивом выделены слова, написанные по-русски.
154
Там же. Л. 4 об.
155
Берков П. Н. История советского библиофильства: 1917–1967. М., 1971. С. 78.
156
РГАЛИ. Ф. 126. Оп. 1. Ед. хр. 235. Л. 2. Письмо написано по-русски.
157
РГАЛИ. Ф. 444. Оп. 1. Ед. хр. 655. Л. 3–4. Письмо написано по-русски.
158
Patouillet J. La Russie actuelle // Bulletin de la Société de géographie et d’études coloniales de Marceilles. T. XLII. 1918–1919. P. 19–22.
159
Patouillet J. Les relations intellectuelles entre la France et la Russie // Revue de Paris. 1920. № 3. Mars-avril. P. 429–448.
160
Patouillet J. L’histoire du théâtre russe: essai de bibliographie critique // Revue des études slaves. 1922. II. P. 125–146.
161
Patouillet J. Molière et sa fortune en Russie // Ibid. P. 272–302.
162
Патуйе Ю. Мольер в России. [Л.], 1924 (Театр под редакцией Д. К. Петрова и Я. Н. Блоха. Монографии по истории и теории театра. Вып. 3). С Д. К. Петровым и Я. Н. Блохом Патуйе входил в 1918 г. в оргкомитет книжного кооператива «Петрополис».
163
РГАЛИ. Ф. 1347. Оп. 3. Ед. хр. 214. Л. 1–3. Письмо на французском языке. Приписка на обороте конверта рукой П. Н. Сакулина по-русски: «Патуйе благодарит за избрание почетным членом О. Л. Р. С. От 15 июня 1924 г.» (Л. 4 об.).
164
Мнухин Л. Памятный год Ковалевских. От казаков с Гетманской Украины до автора «Зарубежной России» // Русская мысль. 2001. № 4373. 19 июля.
165
Les codes de la Russie soviétique. Vol. 1–3. Paris: 1925–1928.
166
Patouillet J. Lettres de Voltaire à Sumarokov // Revue de littérature comparée. 1927. VII. P. 438–458.
167
«Академия наук Союза Советских социалистических республик.
Пушкинский Дом.
Доклад профессора Лионского университета Ю. К. Патуйе (professeur à l’université de Lyon Jules Patouillet) „Мольер в России“.
Будет прочитан в 106‐м открытом научном собрании Пушкинского Дома Академии Наук СССР в 8 часов вечера в четверг 25 августа 1927 года в Малом Конференц-зале Академии (Университетская наб., 5, во дворе).
Вход свободный» (РГАЛИ. Ф. 815. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 13).
168
Chaplet P. La famille en Russie soviétique. Paris, 1929.
169
Patouillet J. Les idées de A. N. Ostrovski sur l’art dramatique // Revue des études slaves. 1929. IX. P. 48–70.
170
Патуйе Ж. О драматургической технике Островского / Пер. с франц. Е. А. Некрасовой // Памяти П. Н. Сакулина: Сб. статей. М., 1931. С. 195–204.
171
Patouillet J. Puškin et Molière // Revue de littérature comparée. 1937. XVII. P. 64–78. См. об этой статье: Боброва Е. И. Пушкинский номер журнала французских компаратистов [«Revue de littérature comparée». Janvier-mars, 1937. Centenaire de la mort de Pouchkine (1837–1937). Paris, 260 p.] // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 4–5. М.; Л., 1939. С. 546–550.