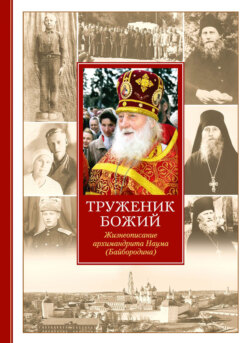Читать книгу Труженик Божий. Жизнеописание архимандрита Наума (Байбородина) - Группа авторов - Страница 13
Глава 3. Годы скитаний
Раскулачивание и коллективизация
ОглавлениеОбъявленная еще В. И. Лениным новая экономическая политика продержалась в Стране Советов не слишком долго – всего около четырех или пяти лет. Едва русское крестьянство успело вытащить себя и страну из пропасти голода и отчаяния, в которую повергла их эпоха Гражданской войны и диктатуры «военного коммунизма» начала двадцатых годов, как оно вновь получило тяжелейший удар, от которого уже не смогло оправиться. И если в двадцатые годы советская власть предполагала вводить коммунизм на селе в форме коллективных хозяйств постепенно и исключительно на добровольной основе, то уже буквально к концу того десятилетия пресловутая «коллективизация» стала кошмаром наяву для русской деревни.
В 1927 году британское правительство разорвало дипломатические отношения с Советским Союзом. В ответ советское руководство разразилось «нашим ответом Чемберлену» и начало вновь готовиться к возможной войне с Антантой. В советских газетах целый год писали об этом надвигающемся сражении, из чего русский крестьянин сделал собственные выводы, продиктованные горьким опытом влияния на его судьбу предыдущих двух войн и революций. Рассудив, что во время войны деньги неминуемо обесценятся, как это уже не раз бывало на народной памяти, крепкий хозяин решил приберечь выращенный хлеб и не продавать его государству по тем и без того заниженным ценам, которые предлагала государственная закупка.
В результате в начале 1928 года выяснилось, что все планы по хлебозаготовкам провалены, хлеба у государства нет и в самое ближайшее время города ожидает голод, начало которого уже ознаменовалось повсеместными длинными очередями за хлебом. Прекрасно понимая, к чему такие очереди неминуемо приведут, – недаром ведь искусственно созданные перебои с поставками хлеба в Петроград помогли в 1917 году свергнуть «проклятый царизм», – власти приняли экстренные меры.
Уже в начале 1928 года вся вина за невыполненные хлебозаготовки была возложена на того самого кулака, который продолжает сознательно вредить советской власти и потому не хочет делиться с ней хлебом. Предложенный план борьбы с этим явлением был прост и означал фактический возврат к временам и практике продразверсток, только виновным теперь грозили не просто изъятие «хлебных излишков», но показательная конфискация всего имущества, включая весь хлеб, и принудительная высылка либо тюрьма или даже расстрел. Кроме того, власти дали понять, что обеспечить полное устранение угрозы повторения подобной ситуации на будущее может только совершенное уничтожение «кулака как класса» и всех сочувствующих ему подкулачников. Остальные же должны быть объединены в колхозы и совхозы, что позволит обеспечить постоянное снабжение государства хлебом в плановом порядке.
«Товарищи на местах» ринулись выполнять решение вышестоящих органов со всей рьяностью и революционной прямотой. Выявление кулаков на селе очень напоминало охоту на ведьм. Каждый район Сибирского края (в состав которого входили тогда территории современной Новосибирской области) получил «сверху» разнарядку на определенное количество кулаков, которых надо было «выявить», и хлеба, который надо было сдать государству. Нормы подлежавшего изъятию хлеба были распределены по селам среди тех, кто был записан в кулаки и середняки, сельская же беднота от поборов освобождалась.
Демонстрация сельской бедноты за «раскулачивание». 1931 г.
После сдачи этих нормативов у крестьянина зачастую не оставалось зерна ни на прокорм своей семьи, ни даже на посевную (а как раз перед посевной 1928 года началась кампания по сдаче хлеба). Попытки возмущения некоторых хозяев, пробовавших открыто отказаться от сдачи хлеба, были пресечены с предписанной жесткостью, так что оставшиеся были испуганы настолько, что Ордынский район даже оказался среди перевыполнивших план по поставкам зерновых государству. Что же до возмущавшихся, то наказание в отношении них носило показательно-устрашающий характер: некоторые хозяева были расстреляны, некоторые посажены в тюрьмы или отправлены на каторжные работы, остальные сосланы вместе с семьями на самый север Сибирского края. При этом все без исключения, конечно, были обобраны до нитки, так что оставшимся в живых в пору было идти по миру побираться.
В следующем, 1929 году все повторилось заново – советские служащие с помощью комсомольцев и активистов проводили обыски по домам, отыскивая припрятанное крестьянами зерно и выявляя злостных кулаков и подкулачников. Нередко такие поиски превращались в откровенные грабежи, когда помимо хлеба у зажиточных хозяев разгулявшейся «беднотой» разворовывались прочие припасы и предметы быта. По свидетельствам очевидцев тех событий, ходившим по дворам активистам ничего не стоило в процессе поисков зерна выпить все обнаруженное в доме вино, съесть весь запас пельменей, отобрать и надеть хорошую одежду, свести со двора лошадь.
Кое-где к активистам примкнули явные уголовники, превратившие борьбу с кулаками в откровенное мародерство. Не довольствуясь местными зажиточными крестьянами, они принялись грабить всех проезжавших через село, отбирая даже нехитрый скарб, вплоть до нижних юбок и подушек.
Тяжелее всего в этом отношении приходилось семьям высылаемых на север края кулаков. Так, секретарь Ордынского райкома партии Шипилов заявил, что у кулаков «надо экспроприировать все, вплоть до утильсырья». Эта установка выполнялась буквально: рьяные «экспроприаторы» забирали даже ношеные валенки, а, например, у одного ребенка из высылаемой семьи отобрали чернильницу, ученическую сумку и двадцать копеек[15].
Сколько этих ограбленных людей, лишенных запаса продуктов, фуража для лошадей, сельхозинвентаря и даже теплых вещей, в результате смогли выжить в суровых условиях севера Томской области или Нарыма, куда их отправляли под конвоем, сейчас трудно предположить. Наступивший повсеместно под видом «классовой борьбы» уголовный беспредел лучше всего выразил один из сибирских советских работников, напутствуя активистов перед раскулачиванием словами: «Все законы аннулированы!»[16]
Выселение кулака из родного села
В том же духе шел и проводимый одновременно с раскулачиванием процесс коллективизации. В 1929 году в Ордынском районе была провозглашена «сплошная коллективизация». Это означало не только полное уничтожение кулацких хозяйств и сочувствующих им подкулачников, но и упразднение единоличных, то есть частных, хозяйств вообще, которые отныне должны были организоваться в колхозы. На практике это осуществлялось по принципу: «Колхоз – дело добровольное: хочешь – вступай, не хочешь – хату сожжем!»
На местах в качестве средств побуждения к вступлению в колхозы использовались такие меры, как запреты упорствующим «единоличникам» продавать и приобретать необходимые им товары в сельских магазинах, оказывать медицинскую помощь, у них отбирались лошади, сельхозинвентарь и запасы семян. Так, один из местных ордынских «райуполномоченных» по фамилии Строганов, встречая отказ «вписаться в коммунию», попросту «записывал у крестьян лошадей в коллективное хозяйство», заявляя: «Считай, что твоя лошадь за тебя все решила. Она тебя умнее и уже вступила в колхоз. Завтра ступай в колхоз вслед за ней, а не пойдешь – поедешь в Нарым, клюкву по кочкам собирать!»[17]
Открытый отказ вступить в колхоз расценивался как признание себя кулаком или подкулачником, даже если по зажиточности такому единоличному хозяйству до кулацкого было далеко. Последствия всё те же: высылка на Север «клюкву собирать» с конфискацией всего имущества. Такой же участи подвергались те, кто отказывался сдавать запасы семян для хранения в общественном амбаре, – мера, которая была введена для страхования успешности запланированного на весну 1930 года «второго большевистского сева». Те, кто рассудил, что его семенное зерно будет сохраннее припрятанным в собственном доме, рассматривались как «замаскированные кулаки», задумавшие из враждебности к советской власти сорвать «большевистский сев».
Так что весной 1930 года вновь начались обходы дворов, сопровождаемые выламыванием стен и полов в домах, погребах и амбарах в поисках спрятанного зерна, а также мелкими и крупными грабежами. В том случае, если поиски проходили с успехом и у подозреваемого удавалось обнаружить потайной «схрон», разграбление его хозяйства совершалось уже в полную силу – все равно имущество такого подкулачника подвергалось полной конфискации при высылке.
И все же, несмотря на все эти меры, сибирские крестьяне в колхозы идти решительно не хотели, причем не только зажиточные, но нередко и числившиеся в «бедноте». Первые коммуны, созданные сельской беднотой еще в самом начале установления советской власти, успели своим примером лишь отвратить от идеи таких коллективных хозяйств большинство трудолюбивых крестьян. Эти коммуны не могли существовать без постоянных дотаций государства, поскольку эффективность их хозяйств была чрезвычайно низкой, и то, что им удавалось произвести, они главным образом сами же и потребляли. Пьянство, бывшее главной причиной бедности среди крестьян хлебородной Сибири, продолжало процветать и в среде новоиспеченных коммунаров, а царившие здесь уравниловка и обязаловка отнюдь не способствовали усердному труду.
«Счастливые» крестьяне голосуют за колхоз
Сама идея такого образа ведения хозяйства настолько противоречила ценностям крепкого сибирского крестьянина, что идея колхозов встретила отпор даже у представителей сельсоветов и сельских коммунистов. Например, в селе Сушиха секретарь местной партийной ячейки и член партийного бюро открыто высказывали, что «никакого толку от всех этих батраков не будет, куда хошь их соединяй. Батраки все – пьяницы и лодыри, даже в партию из них некого принять». А в селе Верх-Ирмень, соседнем с Мало-Ирменкой, в котором жили Байбородины, члены местной партячейки, насчитывавшей двенадцать членов партии и двенадцать кандидатов, заявили, что «лучше из партии, чем в коммуну»[18].
При таком положении дел местным районным руководителям, уже объявившим успех «сплошной коллективизации» в Ордынском районе, пришлось прибегать к жестким мерам. Несогласные с их политикой сельсоветы разгонялись, члены партии, даже с большим стажем, безжалостно из нее исключались, а повсеместная агитация за вступление в колхозы продолжалась с удвоенным энтузиазмом и тем же насилием, что и прежде. К лету 1930 года в Сибири были подвергнуты репрессиям уже около ста тысяч человек. Из них десять с половиной тысяч проходили по так называемой «первой категории» – с расстрелом или каторгой для главы семьи и с конфискацией имущества и ссылкой для остальных ее членов. По «второй категории» более восьмидесяти двух тысяч человек были лишены имущества и сосланы на север Томской области. Еще пятьдесят тысяч семей оказались просто разорены той же конфискацией, однако им было позволено остаться в родных краях[19]. Результат этой деятельности едва не поставил советскую власть перед угрозой новой полномасштабной крестьянской войны, а сельское хозяйство – на грань полного развала.
На произвол и притеснения властей крестьяне Западной Сибири отвечали как могли. В 1930 году здесь действовали около восьмисот кулацких банд, совершивших порядка тысячи террористических актов, направленных против советских служащих, комсомольских активистов и организаторов колхозов. Но это был заведомо обреченный путь, поскольку разрозненные крестьянские выступления не могли перерасти в нечто большее, не имея ни общего лидера, ни единой организации. В Сибири, где на тридцать пять дворов приходился в среднем один милицейский штык, не считая регулярных войск, партизанское движение не могло продержаться долго.
Другим повсеместным актом протеста людей, приговоренных властью к раскулачиванию и коллективизации, было самостоятельное уничтожение собственного хозяйства – раз уж его и так суждено было потерять. Начались масштабный забой скотины и заготовка мяса впрок, чтобы как-то продержаться первое время в колхозе и не отдавать чужакам трудами нажитое добро. Весной 1930 года в стране было забито пятнадцать миллионов голов крупного рогатого скота, треть всех свиней и четверть овец[20].
Еще одним широко распространявшимся способом уберечься от раскулачивания и коллективизации было массовое бегство крестьян из родных мест. Не стали исключением и села Ордынского района. Причем побеги эти осуществлялись порой с решительностью и изобретательностью. Так, бывший лавочник из села Усть-Хмелевка летом 1929 года за ночь разобрал свой только что срубленный дом, сделал из него плот, погрузил на него семью и пожитки и уплыл по Оби до Новосибирска. Здесь он вновь собрал из бревен плота дом и спокойно прожил на новом месте всю жизнь, так и не решившись больше никогда даже навестить родную деревню. Жители небольшой деревни переселенцев из Тамбова, которых уполномоченный заставлял на следующий день вступить в колхоз, пообещали подумать до утра. Ночью же вся деревня скрытно собрала вещи, запрягла лошадей и уехала в неведомом направлении, так что, проснувшись наутро, уполномоченный обнаружил лишь пустые дома.
Один из очевидцев тех событий вспоминал впоследствии: «На моих глазах те, кто побогаче, разъезжались кто куда. Взять хотя бы отцова брата Филиппа, который в Ордынке жил. Когда начали организовывать в Ново-Кузьминке колхоз, он ночью запряг свою пегую кобылу и со всей семьей рысью прямо в Камень-на-Оби, там – на пристань да на пароход! Его сын, Александр Третьяков, который сейчас в Козихе живет, потом рассказывал, что вся семья уже на пароходе, а отец все бегает по пристани, ищет, кому бы лошадь продать. Лошадь у него хорошая, но он готов ее продать за двадцать, даже за десять рублей – ну не бросать же ее просто так, да еще вместе с телегой. В конце концов он продал ее за бесценок какому-то случайно подвернувшемуся мужику. Сел мужик на телегу, хлестнул лошадь и поехал. Дядя Филипп глядел ему вслед и плакал. Он же не лошадь продавал, а, можно сказать, со всей прежней жизнью прощался. Потом они плыли по Оби, дальше уже по Иртышу, заехали куда-то далеко в Восточный Казахстан, где их никто совершенно не знал. Там и жили вплоть до 1968 года. Только тогда дядя Филипп решился вернуться на родину»[21].
Нельзя сказать, что власти никак не препятствовали такому бегству. На выезде из района по решению местных сельсоветов были выставлены заградительные отряды из сельской бедноты. Они поворачивали выезжавшие подводы обратно, заодно грабя имущество тех, кто выглядел зажиточно. Вскоре невозможно стало выехать не то что из района, а даже за сельскую околицу. Но и это не помогло удержать всех. К концу 1932 года из Ордынского района уехал почти каждый десятый житель, не считая высланных принудительно, так что в некоторых селах треть домов стояли пустыми.
Оставшиеся на родной земле и насильно согнанные в колхозы люди не испытывали особенного душевного подъема от перспективы работать на кого-то, а не в собственном хозяйстве. Поэтому широко распространились равнодушие к успехам «общественного» хозяйства, пьянство, прогулы. В результате производительность упала в разы, что не замедлило сказаться на урожаях. Так в Советском Союзе появились острый недостаток продуктов сельского хозяйства, карточная система и пресловутый «дефицит».
15
См.: Лыков О.М. Звезда над Обью. Новосибирск: Новосибирское книж. изд-во, 2006. С. 173.
16
См.: Лыков О.М. Ордынская хроника. Книга вторая. Трагедия и подвиг Ордынской земли. Новосибирск: Сибирское книж. изд-во, 2010. С. 43–46.
17
Там же. С. 52.
18
Там же. С. 34–35.
19
См.: Лыков О.М. Звезда над Обью. С. 173–174.
20
См.: Лыков О.М. Ордынская хроника. Книга вторая. Трагедия и подвиг Ордынской земли. С. 57, 60–61.
21
Там же. С. 47–49.