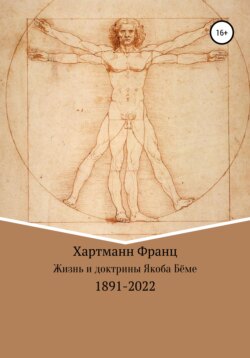Читать книгу Жизнь и доктрины Якоба Бёме - Хартманн Франц - Страница 4
Жизнь Якоба Бёме
Оглавление«Полнота времени совершилась, и Царство Божье пришло. Покайтесь и уверуйте в Евангелие истины» – Дж. B.
Якоб Бёме родился в 1575 году в Альт-Зайденбурге, местечке, расположенном примерно в двух милях от Герлица в Германии. Он был сыном бедных деревенских жителей и в юности пас скот своих родителей. Затем его отдали в школу, где он научился читать и писать, а после поступил подмастерьем в сапожную мастерскую.
Похоже, что ещё в ранней юности он был способен входить в аномальное состояние сознания и видеть образы в астральном свете. Однажды, пася скот и стоя на вершине холма, он вдруг увидел арочный проём свода, сложенного из больших красных камней и окружённого кустами. Он вошёл через это отверстие в хранилище, и в его глубине увидел сосуд, наполненный деньгами.
Однако у него не возникло желания завладеть этим сокровищем, но, решив, что это продукт духов тьмы, созданный для того, чтобы ввести его в искушение, он убежал.
Позднее, когда он остался один в лавке сапожника, туда вошёл неизвестный человек и попросил купить пару туфель. Бёме, полагая, что в отсутствие хозяина не имеет права заключать такие сделки, запросил необычайно высокую цену, надеясь таким образом избавиться от желающего купить. Тем не менее, незнакомец купил обувь и вышел из лавки. Выйдя, он остановился перед магазином и громким и торжественным голосом обратился к Бёме:
«Якоб, выйди на улицу».
Бёме был очень удивлён, увидев, что незнакомец знает его имя. Он вышел на улицу, чтобы встретить его, и там незнакомец, взяв его за руку и глубоко проникновенно глядя ему в глаза, произнёс следующие слова:
«Иаков, сейчас ты мал, но станешь великим человеком, и мир будет удивляться тебе. Будь благочестив, живи в страхе Божьем и почитай Его слово. Особенно я советую тебе читать Библию. В ней ты найдёшь утешение и успокоение, ибо тебе придётся испытать много бед, нищеты и гонений. Тем не менее, не бойся, но будь твёрд, ибо Бог любит тебя и милостив ко всем».
Затем он снова сжал руку Бёме, ещё раз ласково посмотрел на него и ушёл.
Это замечательное событие произвело большое впечатление на ум Якоба Бёме. Он серьёзно занялся упражнениями, необходимыми для изучения практического оккультизма; то есть он практиковал терпение, благочестие, простоту мыслей и целей, скромность, подчинение своей воли Божественному закону и помнил об обещании, данном в Библии, что те, кто искренне просят Отца Небесного и Святого Духа, получат дух святости, пробуждённый в себе, и будут озарены Его мудростью.
Такое озарение, действительно, произошло в его сознании, и семь дней подряд Якоб Бёме находился в экстатическом состоянии, во время которого он был окружён светом Духа, а его сознание погружено в созерцание и счастье. О том, что он видел во время этих видений, не говорится, да это и не могло бы удовлетворить любопытство читателя. Ибо вещи Духа немыслимы для внешнего ума и могут быть осознаны только теми, кто, поднявшись над царством чувств и войдя в состояние высшего сознания, способен их воспринять. Такое состояние не обязательно исключает использование внешних способностей, ибо если Платон говорит о Сократе, что тот однажды простоял неподвижно полтора дня на одном месте в состоянии такого экстаза, то в случае с Якобом Бёме мы видим, что во время подобного состояния он продолжал заниматься внешними делами своей профессии.
Затем, в 1594 году, он стал мастером-сапожником, женился на женщине, с которой прожил тридцать лет, и у него родилось четверо сыновей, которые, как и он, продолжали заниматься своей профессией.
В 1600 году, на двадцать пятом году жизни, в его разуме произошло ещё одно божественное озарение, и на этот раз он познал сокровенные основы природы и обрёл способность отныне видеть глазами души сердце всех вещей, способность, которая сохранялась у него даже в нормальном состоянии.
Через десять лет после этого, около 1610 года, произошло его третье озарение, и то, что в прежних видениях представлялось ему хаотичным и многообразным, теперь он осознал, как единство, как арфу со множеством струн, каждая из которых является отдельным инструментом, а вся арфа – единым целым. Теперь он осознал божественный порядок природы и то, как от ствола древа жизни отходят различные ветви, несущие разнообразные листья, цветы и плоды, и он проникся необходимостью записать то, что он видел, и сохранить запись.
Таким образом, начиная с 1612 года и до своего конца в 1624 году, он написал много книг о вещах, которые он видел в свете своего духа, в том числе тридцать книг, полных глубочайших тайн, касающихся Бога и ангелов, Христа и человека, небес и ада, природы. И всё это он делал не ради земной выгоды, но ради прославления Бога и избавления человечества от невежества в отношении Духа.
Он преподавал концепцию Бога, которая была слишком велика, чтобы ее могли постичь узколобые церковники, которые видели, что их власть ослаблена бедным сапожником, и поэтому стали его неумолимыми врагами; ибо Бог, о котором они думали, был ограниченным Существом, Личностью, которая во время Своей смерти отдала Свои божественные силы в руки духовенства, в то время как Бог Якоба Бёме все ещё жил и наполнял вселенную Своей славой. Он говорит:
«Я признаю вселенского Бога, являющегося Единством и изначальной силой Добра во вселенной; самосуществующего, независимого от форм, не нуждающегося ни в какой местности для своего существования, неизмеримого и не поддающегося интеллектуальному постижению ни одним существом. Я признаю эту силу как Троицу в Одном, причём каждый из Трех обладает равной силой и называется Отцом, Сыном и Святым Духом. Я признаю, что этот триединый принцип наполняет в одно и то же время все вещи; что он был и остаётся причиной, основанием и началом всех вещей. Я верю и признаю, что вечная сила этого принципа вызвала существование вселенной; что его сила, сравнимая с дыханием или речью (Слово, Сын или Христос), излучается из его центра и производит зародыши, из которых вырастают видимые формы, и что в этом выдыхаемом дыхании или Слове (Логос) заключено внутреннее небо и видимый мир со всеми существующими в них вещами».
Более того, он учил, что для того, чтобы быть истинным христианином, недостаточно придерживаться определенного набора верований, но только тот, в ком живёт Христос, является истинным последователем Христа в духе и истине.
«Только тот является истинным христианином, чья душа и разум вновь вошли в изначальную матрицу, из которой берет начало жизнь человека, то есть в вечное Слово (λογος). Это Слово было явлено в нашей человеческой природе, которая слепа к присутствию Бога, и тот, кто впитает это Слово своей голодной душой и тем самым вернётся к первоначальному духовному состоянию, в котором человечество взяло своё начало, его душа станет храмом божественной любви, где Отец примет Своего возлюбленного Сына. В нем будет обитать Святой Дух».
«Итак, только тот, в ком существует и живёт Христос, является христианином, человеком, в котором Христос воскрес из тленной плоти Адама. Он будет наследником Христа – не благодаря каким-то заслугам, приобретённым кем-то другим, не благодаря какой-то благосклонности, оказанной ему какой-то внешней силой, но по внутренней благодати».
«Верить только в исторического Христа, довольствоваться верой в то, что когда-то в прошлом Иисус умер, чтобы удовлетворить гнев Божий, – это не значит быть христианином. Таким умозрительным христианином может быть каждый злой дьявол, ибо каждый хотел бы получить без всяких усилий со своей стороны что-то хорошее, чего он не заслуживает. Но рождённое от плоти не может войти в Царство Божье. Чтобы войти в это Царство, нужно родиться заново в Духе».
«Не каменные дворцы и дорогие молитвенные дома возрождают человека, а божественное духовное солнце, существующее на божественном небе, действующее через божественную силу Слова Божьего в храме Христа. Истинный христианин не желает ничего другого, кроме того, чего желает Христос в его душе».
«Все наши религиозные системы – это всего лишь произведения интеллектуальных детей. Мы должны отказаться от всех наших личных желаний, споров, науки и воли, если мы хотим восстановить гармонию с матерью, которая родила нас, ибо в настоящее время наши души являются игровыми площадками для многих сотен злобных животных, которых мы поместили туда вместо Бога и которым мы поклоняемся как богам. Эти животные должны умереть, прежде чем принцип Христа сможет начать жить в них. Человек должен вернуться к своему естественному состоянию (своей первоначальной чистоте), прежде чем он сможет стать божественным».
«Нет другого пути для жизни Христа, кроме как через смерть ветхого Адама; человек не может стать богом и оставаться животным. Никто не спасён Богом в знак благодарности за то, что он посещает церковь и имеет терпение слушать проповедь; но его посещение внешних церемоний может принести ему пользу только в том случае, если он слышит, как Христос говорит в его собственном сердце».
«Все наши споры и интеллектуальные спекуляции по поводу Божественных тайн бесполезны, потому что они исходят из внешних источников. Божьи тайны могут быть познаны только Богом, и чтобы познать их, мы должны сначала искать Бога в нашем собственном центре. Наш разум и воля должны вернуться к внутреннему источнику, из которого они возникли; тогда мы придём к истинной науке о Боге и Его атрибутах».
«Воля и воображение человека извратились по сравнению с их первоначальным состоянием. Человек окружил себя миром собственной воли и воображения. Поэтому он потерял Бога из виду и может вернуть себе прежнее состояние и стать мудрым, только если приведёт деятельность своей души и разума в гармонию с Божественным Духом».
«Христианин – это тот, кто живёт во Христе, и в ком действует сила Христа. Он должен чувствовать, как в его сердце горит божественный огонь любви. Этот огонь – Дух Христа, который постоянно сокрушает голову змея, то есть желания плоти. Плоть управляется волей мира, но духовный огонь в человеке разжигает Дух. Тот, кто хочет стать христианином, не должен хвалиться и говорить: «Я христианин! Желать стать им и подготовить все условия, необходимые для того, чтобы Христос мог жить в нём. Возможно, такого христианина будут ненавидеть и преследовать обычные христиане его времени; но он должен нести свой крест, и таким образом он станет сильным».
«Богословы и христианские сектанты постоянно спорят о букве и форме, не заботясь о духе, без которого форма пуста, а буква мертва. Каждый из них воображает, что он хранит истину, и хочет, чтобы мир восхищался им как хранителем истины. Поэтому они обличают, клевещут и злословят друг друга, и таким образом они действуют против первого принципа, которому учил Христос, и который заключается в братской любви. Таким образом, Церковь Христа превратилась в базар, где выставляются суетные вещи, и как израильтяне пляшут вокруг золотого тельца, так и современные христиане пляшут вокруг своих самодельных фетишей, которых они называют Богом, и из-за этого фетишистского поклонения они не смогут войти в землю обетованную».
«Вся христианская религия основана на знании нашего происхождения, нашего нынешнего состояния, нашей судьбы. Она показывает, во-первых, как из единства мы попали в разнообразие и как мы можем вернуться в прежнее состояние. Во-вторых, она показывает, какими мы были до того, как стали разобщёнными. В-третьих, она объясняет причину продолжения нашего нынешнего разделения. В-четвертых, она наставляет нас относительно конечной судьбы смертных и бессмертных элементов в нашей конституции».
«Все учения Христа не имеют никакой другой цели, кроме как показать нам путь, как мы можем вновь подняться из состояния разнообразия и дифференциации к нашему первоначальному единству; и тот, кто учит иначе, учит ошибке. Все доктрины, которые витают вокруг этой основополагающей доктрины и которые не соответствуют последней, являются лишь продуктами мирской глупости, считающей себя мудрой. Это просто бесполезные украшения, которые будут украшать нас. Они лишь бесполезные погремушки, которые создают проблемы и предназначены для того, чтобы пустить пыль в глаза невеждам».
«Тот, кто пытается выставить себя духовным учителем, не имея духовной силы восприятия истины, думая служить Богу, обучая Царству Божьему, о котором он практически ничего не знает, не служит истинному Богу, но служит самому себе, питает и кормит своё тщеславие. Он может быть законно назначен на свою священническую должность, но он не является истинным пастырем. Христос говорит: „Кто входит в овчарню не дверью, а через окно, тот вор и убийца, и овцы не пойдут за ним, потому что не знают голоса его“. Он не владеет голосом Божьим, а только голосом своего обучения. Но Христос сказал: „Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный посадил, вырву и погублю“. Как же безбожник может пытаться сажать небесные растения, не имея ни духовного семени, ни силы? Чтобы стать настоящим духовным учителем, человек должен учить в Духе Божьем, а не в духе эгоизма».
Что касается различия между верой и просто убеждением, Бёме говорит: «Историческое убеждение – это просто убеждение».
«Историческая вера – это просто мнение, основанное на каком-то принятом объяснении буквы написанного слова, выученное в школах, услышанное внешним ухом и порождающее догматиков, софистов и мнительных служителей буквы. Но Вера – это результат непосредственного восприятия истины, услышанной и понятой внутренним чувством, наученной Святым Духом и производящей теософов и служителей Божественного Духа».
Что касается вопроса о том, могут ли грехи быть прощены священником, его мнение не вызывает сомнений:
«Ни один грех не может быть снят священническим отпущением. Если Христос воскреснет в сердце, то ветхий Адам умрёт, а вместе с ним и грехи, которые он совершил. Если солнце взойдёт, то ночь будет поглощена днём и не будет существовать. Сколько угодно расходитесь, кричите, плачьте, пойте, проповедуйте и учите, всё это не принесёт никакой пользы, пока зло существует в вашем сердце. Если я буду 1000 лет ходить на исповедь, каждый день просить священника отпустить мне грехи и, кроме того, каждые четыре недели принимать причастие, это ничего мне не даст, если во мне нет Христа. Животное, идущее в церковь, выйдет животным, каким бы церемониям его ни заставили подчиниться».
«У современных христиан есть каменное здание, где они служат богине тщеславия, где они диссимулируют, где люди демонстрируют свои прекрасные одежды, а проповедник – свою образованность; но истинный христианин имеет свою церковь в своей душе, где он учит и слушает. Эта церковь с ним и в нём, куда бы он ни пошёл, и он всегда в своей церкви. Его церковь – это храм Христа, где Святой Дух проповедует всем существам, и во всём, что он видит, он слышит проповедь Божью».
«Истинный христианин не принадлежит к какой-либо определенной секте. Он может участвовать в церемониальном служении каждой секты, но при этом не принадлежать ни к одной из них. У него есть только одна наука – Христос внутри него; у него есть только одно желание – делать добро. Посмотрите на полевые цветы. У каждого из них есть свои особенности, но они не ссорятся и не дерутся друг с другом. Они не ссорятся из-за обладания солнечным светом и дождём, не спорят о цвете, запахе и вкусе. Каждый из них растёт в соответствии со своей природой. Так и с детьми Божьими. У каждого из них свои дары и качества, но все они исходят от одного Духа. Они наслаждаются своими дарами и прославляют мудрость Того, от Кого они произошли. Зачем им спорить о качествах Того, Чьи качества проявляются в них самих?»
«У всех нас есть только один единственный порядок, к которому мы принадлежим, и единственное правило этого порядка – исполнять волю, то есть, не дёргаться и служить инструментом, через который Бог может исполнять Свою волю. Что бы Бог ни посеял и ни проявил в нас, мы возвращаем это Ему как Его собственный плод. Царство Небесное основано не на наших мнениях и авторизованных убеждениях, но коренится в собственной Божественной силе. Наша главная цель должна заключаться в том, чтобы иметь Божественную силу внутри себя. Если мы обладаем ею, то все научные поиски будут простой игрой интеллектуальных способностей, которыми мы развлекаем себя, ибо истинная наука – это откровение Божьей мудрости в нашем разуме. Бог проявляет Свою мудрость через Своих детей, как земля проявляет свои силы, производя различные цветы и плоды. Поэтому пусть каждый радуется своим дарам и наслаждается дарами других. Почему все должны быть одинаковыми? Кто осуждает лесных птиц за то, что они не все поют одну и ту же мелодию, но каждая из них славит своего Творца по-своему? Тем не менее, сила, которая позволяет им петь, исходит от одного источника».
Его первая работа, озаглавленная «Аврора» (начало нового дня), ещё не была закончена, когда по неосторожности одного из друзей копии рукописи попали в руки духовенства. Главный пастор Гёрлица, которого звали Грегориус Рихтер, человек совершенно неспособный понять глубины той религии, которую он исповедовал, в неведении о божественных тайнах истинного христианства, о котором он не знал ничего, кроме его поверхностного аспекта и формы, слишком тщеславный, чтобы смириться с тем, что бедный сапожник может обладать какими-либо духовными знаниями, которыми не обладает он, сытый священник, стал злейшим врагом Якоба Бёме, понося и проклиная автора этой книги, и его ненависть была доведена до крайней степени кротостью и скромностью, с которыми Бёме принимал оскорбления и поношения, направленные в его адрес.
Вскоре фанатичный священник публично с кафедры обвинил Бёме в нарушении мира и еретичестве, просил городской совет Герлица наказать предателя и угрожал, что если он не будет удалён из города, то пробудится гнев Божий, и Он заставит всё это место быть поглощённым землёй, подобно тому, как он утверждал, что Корах, Дафан и Авирам погибли после сопротивления Моисею, человеку Божьему.
Тщетно Якоб Бёме пытался лично вразумить разъярённого доктора богословия. В результате его беседы с ним последовали новые проклятия и оскорбления, а пастор пригрозил, что арестует Якоба Бёме и посадит его в тюрьму. Городской совет испугался священника и, хотя тот не смог обосновать ни одного обвинения против Бёме, тем не менее, приказал ему покинуть город, опасаясь последствий, которые могут наступить, если они не выполнят просьбу преподобного Рихтера.
Бёме терпеливо подчинился несправедливому постановлению. Он попросил разрешения вернуться домой и повидаться с семьёй, прежде чем отправиться в изгнание, но и в этом ему было отказано. Тогда его единственным ответом было: «Хорошо; если я не могу поступить иначе, я буду доволен».
Бёме уехал, но в течение следующей ночи в сердцах членов Совета появилось больше мужества, а в головах – больше рассудительности. Они упрекнули себя за то, что изгнали этого человека, и на следующий день позвали Якоба Бёме обратно и разрешили ему остаться, сказав, однако, что он должен отдать им рукопись «Авроры» и впредь воздерживаться от написания книг.
В течение семи лет Бёме, повинуясь этому глупому указу, воздерживался от записи переживаний, которыми он наслаждался в царстве духа, и, вместо того чтобы нести свет людям, довольствовался починкой их обуви. Тяжёлая борьба потребовалась ему, чтобы остановить приливную волну Духа, которая с непреодолимой силой обрушилась на его душу; но наконец, ободрённый советами друзей, которые советовали не сопротивляться больше импульсу, исходящему от Бога, боясь ослушаться созданных человеком авторитетов, он возобновил писательский труд.
Труды Якоба Бёме вскоре стали известны миру и привлекли внимание тех, кто был способен осознать и оценить их истинный характер. Он нашёл много друзей и последователей среди высоких и низких, богатых и бедных, и казалось, что в священнической и фанатичной Германии должно было произойти новое излияние Духа Истины.
В это время Якоб Бёме написал ряд книг и памфлетов: «Аврора», «Три принципа божественного бытия», «Тройная жизнь человека», «Воплощение Иисуса Христа», «Шесть теософских пунктов», «Книга земных и небесных тайн», «Библейское исчисление продолжительности мира», «Четыре сложности», «Защита»; книга о «Порождении и знамении всех существ», об «Истинном покаянии», «Истинном возрождении», «Сверхчувственной жизни», «Возрождении и божественном созерцании», «Избрании благодати», «Святом крещении», «Святом причастии», «Дискурсе между просветлённой и непросветленной душой», эссе «Молитва», «Таблицы трёх принципов божественного проявления», «Ключ к наиболее выдающимся мирам», «Сто семьдесят семь теософских вопросов», «Теософские письма» и другие небольшие работы и статьи по философским вопросам.
В марте 1624 года, незадолго до смерти, для Якоба Бёме началось время великих страданий. В 1623 году Абрахам фон Франкенбург издал несколько работ Бёме под названием «Путь ко Христу», и появление этой книги, полной божественной истины, вновь воспламенило зависть и ярость злобного пастора из Гёрлица, разгоревшегося в пламя от наблюдения за тем, с какой благосклонностью книга была принята истинными просвещёнными умами. С величайшей яростью он снова начал свои гонения на Якоба Бёме, проклиная и понося его с кафедры. Он также опубликовал против него пасквиль, полный личных оскорблений и вульгарных эпитетов, в которых не было ни разума, ни логики; но вместо них – бесчисленная клевета, такая, какую мог придумать или измыслить мозг человека, обезумевшего от страсти.
На этот раз Бёме не остался пассивным, как в прошлый раз, но передал городскому совету письменную защиту в оправдание своего поступка, и, кроме того, написал ответ Рихтеру, отвечая в спокойной и достойной манере на каждый пункт возражений Рихтера, уничтожая его аргументы силой своей логики и силой истины. Эта защита была выдержана не в ироническом стиле, а пронизана любовью и жалостью к заблуждающемуся человеку, скромная и красноречивая до такой степени, какую редко можно встретить даже среди величайших ораторов.
Однако городской совет, вновь запуганный крикливым священником, не принял защиту Бёме, а выразил пожелание, чтобы тот добровольно покинул город. Городской совет выразил ему своё желание в форме благонамеренного совета, чтобы спасти себя от участи еретиков, которая заключалась в сожжении на костре по приказу курфюрста или императора, любой из которых мог бы быть склонен охотно прислушаться к представлениям духовенства, будучи предположительно мало колеблющимся, чтобы отдать необходимый приказ, если прихоть священства может быть удовлетворена такой сравнительно незначительной вещью, как казнь беспокойного человека, нарушающего их покой.
Бёме, повинуясь этому совету, который, как он прекрасно знал, был замаскированным приказом, покинул Герлиц 9 мая 1624 года и отправился в Дрезден, где нашёл приют в доме врача по имени Бенджамин Хинкельман. Там он получил множество почестей и предложения помощи, но он оставался скромным, написав другу, что намерен уповать не на кого-нибудь, а на Бога живого; и что, пока он это делает, он полон радости и всё хорошо.
Примерно в это время Бёме, по приказу курфюрста, пригласили принять участие в учёной дискуссии, которая должна была состояться между ним и некоторыми из лучших богословов того времени, включая двух профессоров математики. Дискуссия состоялась, и Бёме поразил своих оппонентов глубиной своих идей и необычайными познаниями в области божественных и естественных вещей, так что, когда курфюрст попросил их вынести своё решение, богословы попросили время, чтобы ещё раз исследовать вопросы, которые Бёме представил им, и которые, казалось, выходили за пределы того, что они считали себя способными постичь. Один из этих теологов, Герхард по имени, сказал, что он не принял бы весь мир, если бы ему предложили взятку за осуждение такого человека, а другой, доктор Майсснер, ответил, что он того же мнения, и что они не имеют права осуждать то, что превосходит их понимание; и таким образом можно увидеть, что не все теологи были подобны Грегориусу Рихтеру, но что в духовной профессии, как и в любой другой, могут быть мудрецы и глупцы. Таких богословов, благородного ума и без фанатизма, отныне можно было встретить среди почитателей и друзей Якоба Бёме, и при каждой встрече он относился к ним с уважением.
Вскоре после этого он написал свой последний труд под названием «Таблицы, касающиеся Божественного проявления», и, вернувшись в свой дом, заболел лихорадкой. Его тело начало опухать, и он объявил своим друзьям, что время его смерти близко, сказав: «Через три дня вы увидите, как Бог пришёл со мной». Тогда они спросили его, желает ли он умереть, и он ответил: «Да, по воле Божьей». Когда его друзья выразили надежду найти его выздоровевшим на следующий день, он ответил: «Да, по воле Божьей», и добавил: «Да поможет Бог, чтобы всё было так, как вы говорите. Аминь».
Это произошло в пятницу, а в следующее воскресенье, 20 ноября 1624 года, перед часом ночи Бёме позвал своего сына Тобиаса к своей постели и спросил его, не слышит ли он прекрасную музыку, а затем попросил открыть дверь в комнату, чтобы лучше слышать небесные песни. Позже он спросил, который час, и когда ему ответили, что часы пробили два, он сказал: «Это ещё не время для меня, через три часа будет моё время». После паузы он снова заговорил и сказал: «Ты, всесильный Бог Забаот, спаси меня по воле Твоей». Он снова сказал: «Распятый Господь Иисус Христос, помилуй меня и возьми меня в Царство Твоё». Затем он дал своей жене некоторые указания относительно своих книг и других мирских дел, сказав ей также, что она не переживёт его надолго (что и произошло), и, оставив сыновей, сказал: «Теперь я войду в рай». Затем он попросил своего старшего сына, чей любящий взгляд, казалось, удерживал душу Бёме от разрыва телесных уз, повернуть его, и, издав один глубокий вздох, его душа отдала тело земле, которой оно принадлежало, и вошла в то высшее состояние, которое не известно никому, кроме тех, кто испытал его сам.
Враг Якоба Бёме, фанатичный староста Грегориус Рихтер, отказался достойно похоронить труп философа, и, поскольку городской совет Гёрлица, опять же в страхе перед священником, колебался и не знал, что делать, уже было решено отвезти тело для погребения в сельскую местность, принадлежащую одному из друзей Бёме, и в этом случае, несомненно, произошла бы ссора, и церемония была бы нарушена населением, чьи предрассудки были возбуждены духовенством. Но в назначенное время прибыл католический граф Ханнибал фон-Дрон и приказал похоронить тело в торжественной обстановке и в присутствии двух членов городского совета. Так и произошло, но пастор притворился больным и принял лекарство, чтобы избежать необходимости произносить заупокойную проповедь, а священник, произнёсший проповедь вместо него, хотя он сам давал отпущение грехов и причастие Бёме незадолго до смерти последнего, начал свою речь с выражения глубокого отвращения к тому, что его заставили сделать это по приказу Совета.
Некоторые друзья Бёме в Силезии прислали крест для возложения на его могилу, но вскоре он был уничтожен руками какого-то фанатика, который вообразил, что хочет угодить Богу, оскорбляя память человека, который был несносен для священников, но который сделал больше для того, чтобы донести до человечества истинное знание о Боге, чем священники когда-либо делали в современное или древнее время. Этот крест был искусно украшен оккультными символами. На вершине был изображён пылающий крест с надписью на иврите IHSVH и двенадцатью золотыми лучами. Под ним были инициалы его любимого девиза и изображение ребёнка, спящего и покоящегося на черепе, что означало возрождение через мистическую смерть. Далее следовала надпись: «Здесь покоится тело Якоба Бёме, рождённого от Бога, умершего в IHSVH и вознесённого Святым Духом». Справа от этой надписи было изображение чёрного орла на горе, наступающего на большую свернувшуюся змею, держащего правым когтём пальмовый лист, а в клюве – ветку лилии. На этом изображении было написано Vidi. На левой стороне был изображён лев с золотым крестом и короной. Правой задней лапой лев стоял на камне в форме куба, а левой – на глобусе; в правой лапе он держал пылающий меч, а в другой – горящее сердце с надписью Vici. Нижеописанной надписи находилось ещё одно изображение овальной формы, изображавшее агнца с епископской митрой и посохом, стоящего возле пальмы, рядом с текущим источником, на поле, покрытом различными цветами. Внизу была надпись Veni. Значение этих трех слов следующее: In mundum Veni; Satanam descendere Vidi; Infernum Vici. Vivite magnanimi1. Наконец, на нижней части креста были начертаны последние слова, произнесённые Бёме: «Теперь я войду в рай».
Внешне Бёме был невысок, у него была короткая, тонкая борода, слабый голос и глаза сероватого оттенка. Он не обладал достаточной физической силой; тем не менее, ничего не известно о том, что он когда-либо болел какой-либо другой болезнью, кроме той, которая стала причиной его смерти. Но если Якоб Бёме был мал телом, то он был гигантом в интеллекте и сильным духом. Его руки не могли совершить ничего более великого, чем писать и делать обувь, но сила Божья, проявившаяся в том, казалось бы, незначительном организме и соединении элементов и духовных принципов, которое представлял собой человек Якоб Бёме на этом земном шаре, была достаточно сильна, чтобы низвергнуть и продолжает низвергать самые окаменелые и гигантские суеверия, существовавшие в его собственном и последующих веках. Его «Дух» все ещё сражается с силами тьмы, и Свет, зажжённый в душе бедного маленького Якоба Бёме, всё ещё освещает мир, становясь всё больше и ярче день ото дня, по мере того как человечество становится всё более способным видеть его, принимать и постигать его идеи. Его дух, или, правильнее сказать, Дух Истины, проявившийся в трудах Якоба Бёме, постепенно оживляет старую теологию, убивая клерикализм и фанатизм, суеверие и невежество, гигантских монстров, которые опустошали мир на протяжении веков, и которым было принесено в жертву больше жертв, чем погибло от рук бога войны, моровой язвы и наркотиков. Мыслящая часть человечества начинает понимать, что существует огромная разница между истинным духом христианской религии и той внешней формой, в которой она представлена для вульгарного ума. Даже лучший класс духовенства – то есть те, кто не полностью поглощён догматическими мнениями, которые были привиты их уму в школах, но кто осмеливается искать самопознания в Боге – знают, что цепляние за внешние формы религии мешает разуму проникнуть в их глубину и постичь дух, который породил эти формы и который един во всех великих религиях, ибо истина универсальна, проста и едина; только учёные видят её во множестве аспектов и рассматривают её сквозь разноцветные стекла.
Что касается практического применения этой доктрины, то Якоб Бёме говорит: «Если мы позволим нашему разуму размышлять о земных желаниях, наш разум будет пленён ими; но, если мы духовно поднимемся над миром земных желаний и ощущений, мир света пленит нашу волю, земной мир потеряет свою силу притяжения нашего сознания, и мы войдём в божественное состояние Бога. Царство материи и тьмы – это царство мук, раздоров и страданий; царство Духа – это царство света, радости, мира и счастья. Нет такого человека, который желал бы погрузиться в материальные удовольствия, если бы был способен постичь и осознать радости духовного состояния. Но если огонь души не озарён божественным светом, воля души не может войти в это состояние, а остаётся во тьме. Поверхностный рассудок считает, что не существует способности видеть, кроме как внешними глазами, и если это зрение исчезло, то и зрению приходит конец. Очень печально, если душа может видеть только через внешнее зеркало глаз. Что увидит такая душа, если это зеркало будет разбито? Она будет находиться во тьме и воспринимать только яркие молнии, которые разгораются от её собственных страданий и отчаяния. Пока душа связана с телом, она может созерцать божественный свет в его модификациях, проявляющихся через промежуточное действие земного солнца, а солнце – это источник света и всех его земных радостей. Таким образом, земное солнце становится Богом, она принимает следствие за причину; она удаляется от источника реального и вечного света и погружается во тьму. Но если божественный вечный свет принят в душу, он зажигает в ней огонь, который освещает всю субстанцию души, так что она становится светящейся, зеркалом, или глазом, в котором отражается свет Божий. Итак, пусть каждый человек исследует себя и посмотрит, какой из трёх миров господствует над ним: мир света, мир иллюзий или мир тьмы. Пусть он исследует свою душу, чтобы увидеть, являются ли в ней правители четыре стихии зла: честолюбие, гнев, зависть и скупость, или же в ней преобладают всеобщее милосердие, благожелательность, доброта, кротость и доброта, и пусть он не ослабевает в борьбе с низшими стихиями, чтобы Дух Божий мог победить в нём. Тот, кто сознательно несёт в себе Божественный образ Бога, не умрёт, когда умрёт его физическое тело, и не потеряет ни одного из качеств, которые его душа приобрела во время жизни в физическом теле. И мир добра, и мир зла заключены в мире человека. Что мы сделаем из себя, тем мы и будем в будущем; что мы пробудим в себе, то и будет жить в нас; в каком бы направлении мы ни боролись, там мы получим свой путеводитель».
Якоб Бёме обладал удивительными оккультными способностями. Известно, что он владел несколькими языками, хотя никто никогда не знал, где он их приобрёл, вероятно, они были выучены им в прошлой жизни. Он также знал язык природы и мог называть растения и животных их собственными именами. Он был наделён экстрасенсорными способностями, которые позволяли ему «психометрически» видеть прошлое и «ясновидяще» заглядывать в будущее. Об этих его способностях рассказывают много анекдотов, из которых можно привести следующий:
«Однажды один беспутный дворянин обрушился на Бёме, назвав его лжепророком и осмелился рассказать что-либо, чему он не научился обычным способом. Бёме попросил оставить его в покое, но так как дворянин продолжал свои оскорбительные высказывания, Бёме, наконец, рассказал ему его прошлую личную историю, упомянув множество злодейских поступков, которые этот дворянин совершил втайне. Он также предсказал, что этот человек скоро придёт к безвременному концу. После этого дворянин пришёл в ярость и, признав правоту слов Бёме, сел на коня и умчался прочь. На следующее утро его нашли мёртвым на дороге, сброшенным с лошади и сломавшим себе шею».
Любимым девизом Бёме было: «Наше спасение – в жизни Иисуса Христа в нас».
Одного этого достаточно, чтобы показать истинный характер христианства Бёме, который искал спасения не в мёртвой и исторической личности, а в живом Иисусе, оживлённом Христом внутри себя, или, выражаясь другими словами, в высшем Манасе (разуме), который становится самосознательным в свете Атма-Буддхи (духовной души).
Когда его просили дать автограф, он часто писал следующее:
«Тот, для кого время то же, что и вечность,
А вечность то же, что и время,
свободен от всех разногласий».
Аналогичное изречение гласит: «Тот, для кого печаль – то же, что вечность, а вечность – то же, что время, свободен от всех разногласий».
«Тот, для кого печаль то же, что и радость,
И радость то же, что и печаль»,
Может благодарить Бога за свою невозмутимость».
Среди наиболее выдающихся последователей и продолжателей Якоба Бёме можно назвать многих известных теологов и философов, таких как доктор Бальтазар Вальтер, Абрахам Франкенберг, Фридрих Краузе и даже сын злейшего врага Бёме, Рихтер из Гёрлица, который опубликовал восемь книг с выдержками из работ Бёме.
Работы Бёме были переведены на разные языки, и привлекли внимание Карла I Английского, который, прочитав его «Ответы на сорок вопросов», воскликнул: «Слава Богу, что ещё существуют люди, способные на собственном опыте дать живое свидетельство о Боге и Его Слове». Йоханнес Спарроу в 1646—1662 годах сделал перевод на английский язык работ Бёме, а Эдвард Тейлор – ещё один во время правления Якова II. Третий перевод был опубликован в 1755 году Уильямом Лоу, и многие авторы (в том числе великий Ньютон), как говорят, в значительной степени черпали из работ Бёме. Однако его выдающимися учениками, наиболее способными воспринять его идеи, были Томас Бромлей (1691) и Джейн Лид (умерла в 1703 году), основательница общества филадельфийцев (если под этим названием можно назвать всех людей, вступивших на определенную ступень развития).
Генри Мура, профессора Кембриджа, попросили изучить книги Якоба Бёме и выступить против них. Он изучил их, но его отчёт оказался не таким, как ожидалось, ибо, хотя он, в силу своих привитых теологических идей, не смог полностью понять Якоба Бёме и во многом неправильно его понял, тем не менее, он высказался в его пользу и сказал, что тот, кто относится к Бёме с презрением, не может быть иным, кроме как невежественным и умственно отсталым; добавив, что Якоб Бёме, несомненно, был духовно пробуждён для исправления тех ложных христиан, которые верят только во внешнего Христа, не обращая внимания на то, имеют ли они Дух Христа внутри себя.
В назидание тем, кто считает, что настоящее может извлечь урок из опыта прошлого, мы должны особо упомянуть имя Иоганна Георга Гихтеля, благочестивого человека и одного из величайших учеников Бёме, человека великой проницательности и силы.
Он был глубоким мыслителем и вёл безупречную жизнь. В 1682 году он переиздал труды Бёме и добавил к ним множество ценных гравюр с пояснениями, демонстрирующими глубину мысли и духовные знания. Разоблачая недостатки духовенства, он сделал их своими врагами. Он хотел исправить их силой. Несколько раз его сажали в тюрьму, а однажды даже публично выставили на столб за его искренность. Он создал общество под названием «Ангельские братья», каждый член которого должен был отречься от мира и войти в состояние ангельского совершенства. Эти «ангельские братья» должны были быть свободны от всех человеческих недостатков и вести образ, в котором их не донимали земные заботы. Предполагалось, что они не склонны к браку и не занимаются никаким физическим трудом, но живут в постоянном созерцании и молитве, и, проникая в центр добра, уничтожают всё зло, чтобы гнев Божий угас в душах всех людей, и повсюду воцарились всеобщая любовь и гармония. Они должны были низложить духовенство и стать вместо него истинными священниками по чину Мелхиседека, взяв на себя Карму всех людей и грех мира для искупления. Таким образом, этот благонамеренный человек забыл, что организация ангельского братства потребует, прежде всего, ангелов для его членства. Таких ангелов нелегко найти, а если бы они и нашлись, то не нуждались бы во внешней организации. Тем не менее, общество Гихтеля, не будучи, предположительно, ни ангельским, ни божественно-мудрым, как говорят, сделало много добра, и Хенке, церковный историк, пишет, что они были особенно терпимы и никогда не осуждали никого за его веру или мнения, и что они никогда не хвастались, но молча совершали много добрых дел.
Последователи Якоба Бёме не всегда оставались в мире. Теологические и другие фанатики будут существовать до тех пор, пока в мире существует невежество. Такие люди, неспособные понять дух учения Бёме, воображали, что оно содержит ересь, и в 1689 году Квиринус Кульман, последователь Бёме, был заживо сожжён на костре в Москве, потому что он слишком свободно выражал своё мнение о беззакониях духовенства того времени.
Все аргументы, которые когда-либо выдвигали противники Якоба Бёме, сводились лишь к применению мерзких эпитетов, таких как «Дурак! Атеист! Свинья! Башмачник! Чудак! Лицемер!» и фразы, подобные следующим:
«Секта Бёме поистине дьявольская и является самым мерзким экскрементом дьявола; она имеет своим источником отца лжи; дьявол овладел Бёме и хрюкает из его уст». (Иоганн Трик.)
«У нас нет желания подниматься по лестнице грёз, созданной Бёме. Это было бы искушением Бога и привело бы нас к гибели». (Deutsch.)
«Труды Якоба Бёме содержат столько же богохульств, сколько и строк. Они имеют страшный запах сапожной смолы и черноты». (Рихтер.)
«Сапожник – это Антихрист». (Рихтер.)
«Мы спрашиваем, кто заслуживает веры? Слово Христа или предвзятый сапожник с его грязью?». (Рихтер.)
«Святой Дух помазал Христа елеем, а злодея сапожника дьявол облил грязью». (Рихтер.)
«Христос говорил о важных вещах, а сапожник говорит о вещах мерзких». (Рихтер.)
«Христос учил публично, а сапожник сидит в углу». (Рихтер.)
«Христос пил хорошее вино, а сапожники пьют виски». (Преподобный Грегориус Рихтер.)
Приведённых выше примеров теологических аргументов того времени будет достаточно. Какими бы смехотворными они ни казались в настоящее время, для Якоба Бёме и его преемников они имели серьёзный аспект.
Хобиус из Гамбурга, последователь Бёме, был вынужден покинуть город из-за страха быть убитым сбродом, чья ярость была возбуждена против него фанатичным пастором, преподобным Й. Фредериком Майером. Абрахам Хинкельман, по той же причине, умер от горя; в то время как Иоганн Винклер, богослов, был убит. Винклер, теолог, отказавшийся выразить презрение Якобу Бёме, был спасён от своих преследователей благодаря защите, которую ему предоставил король.
С другой стороны, было много более просвещённых теологов, которые встали на защиту Бёме и его доктрин; прежде всего Джон Винклер, Джон Матай, Фредерик Бренклинг и Спенсер, и особенно Готфрид Арнольд, автор истории церквей и еретиков. Мудрый может найти мудрость во всём, даже в болтовне ребёнка; но глупец во всем видит своё отражение, и поэтому великий историк Можоф (1688) видит в Якобе Бёме святого и мудреца, а Ф. Т. Аделунг, написавший книгу о человеческой глупости, осуждает его и Теофраста Парацельса как глупцов. Так называемые «рационалисты» и большая часть теологов объединились друг с другом, чтобы бороться против того, что они не могли понять, в то время как Иоганн Саломо Самлер, человек самостоятельно мыслящий и способный проникнуть в дух Бёме, называет труды Бёме «источником счастья и духовного знания, из которого каждый может пить, не нарушая тем самым порядок своей внешней жизни».
Среди тех, кто был в высшей степени способен понять идеи Якоба Бёме, мы упомянем только великого теолога Фредерика Кристофа Оттингера, пастора Оберлина, и Луи Клода де Сен-Мартена, «Неизвестного философа», который перевёл некоторые из его работ на французский язык. Можно было бы назвать и многих других людей, чьи имена хорошо известны в истории и которые в большей или меньшей степени проникли к источнику истины, таких как Генрих Юнг Штиллинг, Фридрих фон Харденберг, Фридрих фон Шлегель, Новалис, Генрих Якоби, Шеллинг, Гете, Франц Баадер, Гегель и многие другие; но всё это ничего не доказывает. Ценность истины не может зависеть от рекомендации или свидетельства какого-либо человека, каким бы большим авторитетом он ни был; она выше всяких похвал. Причина, по которой людям так трудно увидеть истину, заключается в том, что она настолько проста, что её может увидеть даже ребёнок; но умы мирских мудрецов сложны, и они ищут сложности в истине. Поэтому пусть те, кто желает проникнуться духом доктрин Якоба Бёме, отбросят свои предрассудки и откроют глаза для света. Те, кто способен его увидеть, увидят его; а для тех, чьи глаза закрыты, труды Якоба Бёме будут запечатанной книгой, и им будет желательно сначала усвоить урок, преподанный земной жизнью, прежде чем пытаться судить о тайнах жизни в Духе Божьем.
Из источника внутренней жизни в человеке берет начало таинственная способность видеть и чувствовать истину, которая называется «интуицией». Это способность одновременно воспринимать осязанием и внутренним зрением то, что принадлежит духу. Это не понимание, и нет смысла говорить о «надёжности» или «ошибочности» интуиции; это духовное восприятие, и как во внешней жизни мы должны быть способны видеть вещь и ощущать её посредством осязания, прежде чем мы сможем иметь истинное знание о её внешних качествах, так и в созерцании духовных вещей мы должны быть способны внутренне воспринимать объект нашего исследования, прежде чем мы сможем понять, что это такое.
Все труды Якоба Бёме соответствуют утверждениям, содержащимся в христианской Библии, и это обстоятельство сразу же окажется препятствием на пути тех, кто не понимает внутреннего смысла библейских повествований, и может отпугнуть их от внимания к его трудам. Библия, в которую, во внешнем смысле, раньше легко верили и принимали благочестивые и невежественные люди, теперь вызывает всеобщее недоверие и смех у «просвещённой» части рационалистического человечества; и это очень естественно, потому что рационалистические образцы человечества недостаточно просвещены, чтобы увидеть вкусный плод внутри несъедобной оболочки; они не знают, что за этими сказками, полными абсурда, скрыто больше мудрости, чем во всех философских книгах мира. Они ничего не знают о внутренней жизни, о Душе-жизни этого мира, о том, что личности, которые, как драматические актёры, представлены нам в Библии, представляют собой реально живущие и сознательные силы, которые могли или не могли стать более твёрдыми и предстать в земных формах на земном плане. Если, отойдя от псевдонаучной точки зрения, которая рассматривает мир как состоящий из конгломерата самосуществующих, индивидуальных сущностей, мы посмотрим на мир, и особенно на нашу солнечную систему, как на единство, неделимое в своей сущностной природе, но проявляющееся во множестве обличий и форм жизни, история Библии перестанет казаться нам историей людей, живших в давние времена, жизнь и приключения которых не могут представлять для нас серьёзного интереса в настоящее время. Но история эволюции, содержащаяся в Библии, будет пониматься как история эволюции человека – т.е., как история развития человечества. Адам – царь земли, чьё тело столь же велико, как наша солнечная система. История этого удивительного человека, в котором мы все существуем; который стал материальным и деградировал, но был вновь искуплен и одухотворён пробуждением в нём бессмертной жизни и света Христа.
Когда или в какое время произошло нисхождение божественного Логоса – это вопрос, который можно оставить на решение историка и теолога; мне же достаточно знать, что в человечестве есть божественный элемент, с помощью которого человечество может быть искуплено от материализма и невежества и вновь осознать своё изначально божественное состояние. Более того, каждый человек представляет собой маленький мир, в котором содержатся все силы, принципы и сущности, которые, как говорят, существуют в большом мире, Солнечной системе, где мы живём. В каждом из этих маленьких миров постоянно происходит великая работа по искуплению, описанная в Библии как имевшая место в большом мире. Вечно Божественный Дух спускается в глубины материи внутри нашего телесного существа и, силой света и любви Христа в душе, побеждает яростный огонь гневной воли внутри, чтобы восстановить в человеке Божественный образ Бога. Вечно Христос рождается среди животных элементов в конституции человека, обучая интеллектуальные силы; распинается на кресте, в центре четырёх элементов, и воскресает в тех, кто не сопротивляется процессу своего возрождения, благодаря которому они могут обрести жизнь во Христе. Это вечно повторяющийся процесс. Но то, что в отношении нашего мира он имел начало во времени, как он имеет своевременное начало в каждом отдельном существе на земле, кажется само собой разумеющимся, ибо если бы «Адам никогда не пал во грехе» – то есть, если бы универсальное сознание, составляющее основу нашей солнечной системы, никогда не погрузилось в материальное состояние – не было бы повода для его искупления путём пробуждения в нем сознания более высокого рода. Нельзя также предполагать, что мир совершенен сейчас, всегда был и остаётся совершенным, потому что мы видим, что он не совершенен, и если бы это было так, то работа эволюции была бы бесполезной и закончилась.
Эта работа по эволюции и искуплению идёт непрерывно повсюду. Внизу сияет свет солнца, а вверху бьют фонтаны, бьющие из чрева земли. Так свет Духа исходит от солнца божественной мудрости, священной Троицы Воли и Разума и её проявлений; а из глубин человеческого сердца поднимается фонтаном свет любви, побеждающий доводы интеллекта, введённого в заблуждение внешними проявлениями. Семя кладётся в землю не для того, чтобы найти свою конечную цель в наслаждении собой в земле, но, чтобы постепенно умереть и преобразиться, пока оно живёт; чтобы умереть как семя, развиваясь в растение, чьё тело поднимается из тёмной земли к свету и воздуху, и чья форма не имеет никаких следов первоначальной формы семени; семя не было положено в землю, чтобы умереть и сгнить, прежде чем стать растением. Таким образом, духовное возрождение человека должно совершиться сейчас, пока он живёт в теле, а не после того, как это тело, необходимое для такого преобразования, умрёт и будет изъедено червями или уничтожено огнём.
Когда семя перестаёт быть семенем, оно становится растением. Когда человек, промежуточное звено между интеллектуальным животным и богом, перестаёт быть животным, он становится богом. Это происходит, когда в нём начинает жить вселенский Бог, Христос. Тогда иллюзии заканчиваются, и открывается внутренняя истина. Не в книгах, не в мнениях, не в причудах метафизических спекуляций, но в самой живой Истине можно найти Свет.
Подготовившись таким образом, мы можем приступить к изучению доктрин Бёме. Все эти доктрины сводятся к тому, что человек должен исполнять волю Бога, и поэтому возникает вопрос: «Что такое воля Бога?». На это Якоб Бёме отвечает: «Мы сами являемся Божьей волей в отношении зла и добра. Что бы из этого ни проявлялось в нас, мы сами являемся этим, будь то в аду или на небесах». Жизнь человека – это форма божественной воли, и исполнять волю Бога означает, следовательно, стать богоподобным и божественным, пытаясь реализовать свой собственный высший идеал в мыслях, словах и делах. «Бог должен стать человеком, а человек – Богом. Небо должно стать единым с землёй, а земля должна стать небом, чтобы её воля стала волей неба» (Подпись, x. 48.). Словами, мы можем сказать: «Вселенская воля в своём действии в человеке должна стать божественной, чтобы человек мог осознать себя обладателем божественных сил. Земной разум человека должен пробудить в себе божественный свет духа, чтобы внутри разума могло быть создано небо». Доктрины Якоба Бёме, таким образом, предназначены не столько для того, чтобы научить нас тому, что мы должны знать или что мы должны делать, сколько для того, чтобы помочь нам осознать важный факт, какими мы должны быть.
Сам он в предисловии к одной из своих книг говорит следующее:
«Боголюбивый читатель! Если ты искренне и серьёзно желаешь посвятить себя тому, что божественно и вечно, то чтение этой книги будет для тебя очень полезным; но если ты не полностью решился вступить на путь святости, то тебе лучше оставить в покое священные имена Бога, в которых призывается Его высшая святость, потому что гнев Божий может разгореться в твоей душе. Эта книга написана только для тех, кто желает осветиться и соединиться с Высшей Силой, от которой они произошли. Такие люди поймут истинное значение содержащихся в ней слов, а также узнают источник, из которого пришли эти мысли».
Один из самых просвещённых критиков Якоба Бёме говорит по поводу его книги о божественных тайнах:
«Эта книга – сокровищница, в которой вся мудрость сокрыта от глаз глупца; но для детей света она всегда открыта. Никто не сможет ясно понять её, если у него нет ключа, необходимого для этой цели, а этот ключ – Святой Дух. Тот, кто владеет этим ключом, сможет открыть дверь, войти и увидеть тайны божественности, божественной магии, ангельской кабалы и естественной философии. Этот ключ открывает дверь Божественности и, подобно вспышке молнии, освещает тьму материальных условий, ибо её нетленный дух содержится во всех вещах. Только Дух может научить душу человека, из каких глубин возникли истины, содержащиеся в этой книге, для прославления божественного в природе и человеке».
И, опять же, он говорит:
«Дух человека укоренён в Боге; душа человека – в ангельском мире. Дух – божественный, душа – ангельская. Тело человека укоренено в материальном плане; оно имеет земную природу. Чистое тело – это соль, душа – огонь, дух – свет. Дух и душа вечно пребывают в Боге и вдохнуты Богом в чистое тело. Это чистое тело – драгоценное сокровище, скрытое в скале. Оно заключено в материи, обречённой на гибель; но само оно не является ни материальным, ни смертным. Это бессмертное тело, о котором говорил святой Павел. Эти вещи таинственны, запечатлены печатью Духа, и тот, кто желает познать их, должен обладать Духом Божьим. Именно этот Дух озаряет те умы, которые принадлежат Ему, и где бы он ни находился, там соберутся орлы – души и духи. Ни один животный человек, живущий в соответствии со своими чувственными влечениями и животным рассудком, не поймёт этого; потому что это выше досягаемости чувств и выше досягаемости полуживотного интеллекта; это принадлежит святой горе Божьей, и животное, коснувшееся этой горы, должно умереть. Даже освящённая душа, поднимающаяся на эту гору, должна обнажить свои ноги и оставить то, что привязано к ней как к существу. Она должна забыть свою личность и не знать, находится ли она в теле или вне его. Бог знает это. Эти вещи священны. Они написаны для детей; животным нам нечего сказать».
Итак, пусть читатель молится; не устами, не словами, но духом – то есть пусть он откроет своё сердце для воздействия силы Божьей и силой Божественной воли поднимется в то вселенское царство Света, из которого Якоб Бёме получал свои озарения. Это царство живого Слова, которое было в начале, и чья сила Христос, который постоянно шепчет утешение отчаявшейся и умирающей душе – сердце и центр Бога, для которого материальное солнце, наполняющее наш земной мир светом и жизнью, является лишь символом, внешним представлением. Тогда мы увидим внутренний мир, наполненный сверхъестественным и живым светом, несравненно превосходящим свет физического мира, и в этом мире мы найдём Бога, Христа и Святого Духа Истины, явленных вместе со всеми ангелами и тайнами, истинно и удовлетворительно, вне возможности быть оспоренными, потому что тогда нам не нужно будет учить нас простыми буквами или словами, но самой истиной, и мы узнаем, что она есть, а не то, чем она казалась другому, потому что тогда мы сами будем едины с Истиной и познаем её через познание себя.
В 1705 году святой Гихтель писал: «Кто в наше время желает создать что-либо фундаментальное и нетленное, тот должен заимствовать это у Бёме». Труды Бёме – дар Божий, и поэтому не всякий разум может их постичь. Поэтому вы не должны довольствоваться простым чтением и рациональными рассуждениями, но молите Бога дать вам Его Святого Духа, который введёт вас во всякую истину».
Эти пророческие слова, приведённые в прекрасном эссе миссис А. Дж. Пенни о том, как изучать труды Якоба Бёме, были полностью подтверждены последующими событиями. Каждый великий философ, который предстал перед публикой с тех пор, кажется, получил своё вдохновение из книг Бёме. Даже великий Артур Шопенгауэр, один из самых восхитительных философов, чьи работы восхваляют многие, кто с презрением отнёсся бы к работам Бёме, которые они никогда не изучали, был последователем Бёме, и его труды, по сути, не что иное, как изложение доктрин Бёме с точки зрения господина Шопенгауэра, который во многом неправильно понимал Бёме. Шопенгауэр также говорит о работах Шеллинга следующее: «Они почти ничего не представляют собой, кроме переделки «Mysterium Magnum» Якоба Бёме, в которой представлено почти каждое предложение книги Гегеля». Но почему в сочинениях Гегеля для меня невыносимы и смешны те же фигуры и формы, которые в работах Бёме вызывают у меня восхищение и благоговение? Это потому, что в трудах Бёме признание вечной истины говорит с каждой страницы, в то время как Шеллинг берет от него то, что он способен уловить. Он использует те же фигуры речи, но, очевидно, принимает оболочку за плод, или, по крайней мере, не знает, как отделить их друг от друга». (Handschriften, Nachlass, p. 261.)
Было бы слишком утомительно перечислять, что говорили различные современные философы разных стран о трудах Якоба Бёме, единственный способ составить правильное мнение о нём – это проникнуть в его дух и увидеть то, что видел он. Поэтому в заключение я приведу лишь слова Клода де Сен-Мартена:
«Я не молод, мне уже около пятидесяти лет; тем не менее, я начал изучать немецкий язык только для того, чтобы читать этого несравненного автора».
«Я не достоин развязать шнурки этого замечательного человека, которого я считаю величайшим светом, когда-либо появлявшимся на земле, уступая лишь Тому, Кто был самим Светом».
«Я советую вам во что бы то ни стало броситься в эту бездну познания глубочайшей из всех истин».
«Я нахожу в его работах такую глубину и возвышенность мысли, и такое простое и вкусное питание, что я счёл бы пустой тратой времени искать подобное в любом другом месте.» (Письма Кирхбергеру.)
Если Вы однажды познакомитесь с трудами Якоба Бёме, то будете удивлены, что не каждый любитель истины знает эти книги и считает их своим самым ценным и полезным сокровищем в духовной литературе.
«Вся наша доктрина есть не что иное, как инструкция, показывающая, как человек может создать внутри себя царство света… Тот, в ком течёт этот источник божественной силы, несёт в себе божественный образ и небесную субстанцию. В ней Иисус родился от Девы, и он не умрёт в вечности». (Шесть пунктов, vii. 33.)
«Не я, тот я, который я есть, знаю эти вещи; но Бог знает их во мне». (Апология, Тилкен, ii. 72.)
Михаил Титов;
+7-927-434-5843;
support@shkola-zdorovia.ru
1
В мире – Veni; Сатане – Vidi; преисподне- Vici. Живите великодушно.