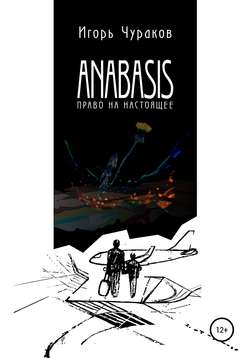Читать книгу Anabasis. Право на настоящее - Игорь Леонидович Чураков - Страница 13
Глава первая. «Погружение»,
где исследуется, с чего и как все начиналось
Запись 30.04.2017. «Обратная сторона Луны»
ОглавлениеКатегория: ВОСПОМИНАНИЯ
Вот у меня на руках комплект учредительных документов нового предприятия. Вот уже и счет в банке открыт – можно договора подписывать. Дело пошло совсем по-другому: от отдельных встреч – к системной работе. Телефонные разговоры с секретаршами, череда личных встреч с руководством, осмотры объектов, обсуждение условий их передачи на баланс создаваемого товарищества. Дело отнюдь не ограничивалось бумажной работой. В домах жили люди, с ними надо было наладить диалог, объяснить суть происходящего. А проблем тут было много. Очень.
В теории результат создания товарищества имел очевидную ценность для всех сторон – собственники недвижимости получали в свои руки право распоряжаться домовладением, серьезные суммы отчислений на баланс товарищества, устранение дефектов – за счет передающей стороны. Предприятие было готово единоразово дать деньги, чтобы никогда больше не возвращаться к больной теме прорыва труб и разбору постоянных жалоб жильцов. Другим плюсом для него было то, что мы за передачу дома просили вдвое меньше, чем администрация города. Да и делалось это в разы быстрее, не обижая финансово никого из участников сделки. Товарищество получало реальные деньги на свой счет: на жизнь и на устранение недоделок по составляемой совместно дефектной ведомости. При поступлении в бюджет они расходились на множество ручейков, до конкретного дома отнюдь не дотекавших. С одной стороны, город в этой схеме был единственным, теряющим потенциальные деньги. С другой, местные власти получали прецедент решения сложной и системной проблемы.
Наша задача заключалась в нахождении баланса между всеми сторонами процесса: предприятием, городом, жильцами, собственниками коммерческих помещений. Нужно было вычислить лидеров мнений, подобрать дееспособное правление и председателя товарищества из числа немногих вменяемых граждан, добиться, чтобы их утвердили на эту роль все остальные. Найти непьющих слесарей и дворников, что было делом совсем немыслимым. На практике, на роль председателя ТСЖ ставилось сначала доверенное лицо, согласованное с заказчиком и нами, спустя какое-то время на эту роль подбирался кто-то из членов правления дома.
С населением дело обстояло много сложнее. Логики здесь было очень немного – в основном, эмоции и мнения. Дом на улице Кирова, с которого все и начиналось, был хорошей школой жесткой обратной связи. Но это были еще цветочки. Ягодки начались, когда мы начали работать с домами рабочих окраин поселка Придонской, улицы Волгоградской и общежитиями швейной фабрики «Работница».
На одну из первых встреч в поселке Придонском я, недодумавши, приехал на черной директорской «Волге» прямо с переговоров, в компании двух начальников достаточно высокого ранга. Сворачивая с трассы к поселку, мы проехали длинный бетонный забор, за которым виднелся тупой частокол железных крыш гаражных боксов, обогнули подстанцию, сплошь покрытую экспрессивной живописью по выщербленным стенам из силикатного кирпича.
«Живопись», чье несовершенство компенсировалось поистине первобытной мощью и динамикой, явно свидетельствовала о жизненном укладе, свойственном данной территории. Наша машина, начищенная до блеска, вкупе с ее обитателями находилась с ним в явном противоречии. Этот уклад, куда мы намерены были вторгнуться, уже сейчас начинал вести против нас невидимое противостояние.
Во дворе толпились люди, недобро косясь в нашу сторону. Машина притормозила, мой начищенный ботинок, судорожно метнувшись из стороны в сторону, нашел пристанище на крохотном островке асфальта среди луж, прелой листвы, мелкого сора и утоптанной в грязь земли. Следом вылез и я, путаясь в складках длинного кожаного плаща и поддерживая шляпу, чтобы уберечь ее от падения. Идти пришлось по бетонному бордюру, балансируя портфелем, как циркач на канате. За мной – привычно, напролом, прямо по грязи, – торило путь видавшее виды начальство.
Мы остановились как раз напротив дома, на плотно прибитом песчаном пятачке, посреди неухоженного двора с разбитыми скамейками. Как боец на ринге, дом довлел над нами в замкнутом дворовом прямоугольнике, уносясь в высоту, в холодное осеннее небо с гонимыми ветром серыми рваными облаками. Я взглянул вверх: лестничная клетка была без оконных и дверных проемов, очевидно разобранных для дач и сараев; ржавый остов входной группы, сделанный когда-то в расчете на остекление, был заколочен разномастными обрезками фанеры, расписанной линялыми граффити. Даже металлические двери и те были изрядно помяты и поцарапаны, а сварные ручки из толстой арматуры свернуты набок. Одним словом, оптимизма пейзаж не внушал.
Народ хмуро смотрел на наше шествие; двор заметно ожил, зашевелился, уплотняясь; новые кучки людей, как капельки ртути, вливались в темное, похожее на амебу пятно посреди двора. Это пятно понемногу нас окружало. Оно уже начинало довлеть над нами: на ржавые поручни лоджий в нижних этажах лестничной клетки тяжело улеглись могучие бюсты представительниц прекрасной половины, покинувших рабочие места на кухне и у телевизора. Видимо, здесь было интересней. Из-за их спин на меня смотрели пустые глазницы лестничных окон; вокруг проемов, подобно волосистой растительности, вился вихрь аэрозольных росписей. Наконец народ сплотился. Внутренняя энергия выплескивалась наружу, по толпе пробегали волны глухого рокота, перемежавшегося вскриками и восклицаниями.
Медлить было нельзя: я, как на ринге, привычно устремился к центру, сохраняя на языке готовые выплеснуться наружу жесткие факты объективной реальности. Те факты, что уже были прописаны в договоре, и за что мной был получен неплохой аванс. Говорить к тому времени я уже научился неплохо. Особенно в обстановке почти боевых действий.
Весь патронташ из арсенала моих доводов ушел в мягкое тело толпы, как будто в тюки с ватой или, скорее, в бурлящую магму в жерле вулкана. Молча, я озирал толпу; упирался взглядом в лица, словно потертые многолетней однообразной действительностью, пытаясь найти хотя бы какое подобие ответа в тусклых, непонимающих глазах. Но этот мир не принимал слов рассудка. Это был мир воистину древнего, первобытного сознания, пробиться к которому через разум было невозможно. Он был устроен по понятиям отнюдь не декартовским, где противопоставлялись объект субъекту, причины следствиям, свобода ответственности. Этот мир жил своим порядком, был им недоволен, но категорически не хотел что-либо менять. Я со своей логикой был так же ему чужд, как мой костюм-тройка был чужд неприхотливой, на любой случай пригодной местной одежде. В потертых лицах отчетливо читалось лишь одно – недоверие к сказанному, знание, что и сейчас их обманут в очередной раз.
Длить паузу было опасно: вулкан уже напрягся под внутренним давлением, готовый вздрогнуть, осесть и прорваться наружу ожесточенным потоком кипящей магмы. Все замерло. Где-то выбивали ковер. Гулкие хлопки мерно звучали в тишине, будто предвещая приход грядущих всадников апокалипсиса. Ветер дул. Тяжелые низкие тучи, свинцовые, как рыбья чешуя, летели по небу, будто бы стараясь побыстрее убраться с этого гиблого места.
Я втянул в грудь воздух, намереваясь перехватить инициативу, однако меня опередили. Один из моих попутчиков, до этого тяжело – как памятник Валериану Куйбышеву на площади перед серой самарской оперой – стоявший на маленьких, словно бы вросших в землю ногах, вдруг сделал полшага вперед и заговорил, негромко и основательно. «Палец за кожаной портупеей был бы кстати», – подумалось мне, – но портупей нам не выдавали.
Из небольшого и почти безгубого, словно пупок, рта, увесисто и неторопливо, как валуны, знающие свой вес, свой срок и свое место, катились слова, падая в толпу людей, как в омут. Говорилось почти то же самое, но по-другому. Я вспомнил «говорящие» следы Гобсека – «когтистую лапу неотвратимости». Под ней – люди еще сильней ссутулились, еще сильней сбились в кучу, понимая уже не разумом, а каким-то иным чутьем, что и на этот раз какие-то люди все уже решили за них, что поделать ничего нельзя, что надо терпеть и смиряться.
Все, что говорилось после, играло скорее техническую роль. Главное было уже решено, оставались детали – подобрать из жильцов некое подобие совета, временного, как и все на свете, составить протокол и пронести его по квартирам, сделать осмотр дома и определить список неотложных нужд, требующих своего разрешения.
Подобных встреч были многие десятки. Единого сценария тут не было, все происходило по-разному, и ориентироваться приходилось на месте. Сразу нужно было выхватить из невнятной толпы лица тех, к кому можно обращаться и выстраивать конструктивный диалог. Увидеть и нейтрализовать тех, кто полезет на амбразуру против любых предложений. Понять, кто что хочет, подобрать нужные аргументы, которые будут услышаны и усвоены. В общем, комбинация опыта западного сетевого маркетинга и заводского советского руководства свою задачу решала.
С элитным жилым фондом дела обстояли не легче. В одном таком доме, в тихом городском центре, еще до дефолта девяносто восьмого года квартиры стоили до четверти миллиона долларов. На вводном собрании мы предложили обустроить помещения для консьержек и слегка поднять платежи. Реакция была сходной: из холеных хозяйских лиц вдруг прорвался наружу оскал слободских закоулков и подворотен.
Интерес подавляющего большинства жителей как элитных домов в центре города, так и рабочих трущоб не выходил за пределы собственной квартиры. Убедить жильцов в том, что свой дом, как и автомобиль, требует постоянной заботы и поддержания в должном состоянии, было крайне непросто. Для каждой аудитории требовались соответствующий внешний вид, способ общения, характер аргументации.
Столь же непростым делом было отстаивание интересов жильцов перед балансодержателем домовладения, особенно перед строительным бизнесом. При передаче дома на баланс товарищества сплошь и рядом наблюдалось разительное отличие проектной документации и реальности. В проекте и смете заложена облицовка цоколя камнем, реально – сделана покраска, чешуйки которой уже начинали отколупываться. Ну, на пару лет еще хватит, далее – ремонт за счет жильцов.
Часто в момент передачи дома оказывалось, что общедолевая собственность (в подвале или на чердаке), стоимость которой заложена в цену квартир, уже продана некоей коммерческой фирме, которая в свою очередь кому то ее уже продает. Или на крыше установлен мощный ретранслятор и заключен долгосрочный договор застройщика с оператором связи, о чем покупатели квартир и знать не знают. Подобных подводных камней, которые надо было обозначить совету дома и как-то обойти, было множество.
В одном многоэтажном доме отводная канализация наружу была в диаметре полтора десятка сантиметров, причем рядом застройщик строил еще две секции на ту же трубу. Глаза у застройщика были ясны и невидящи: прокладывать нормальный диаметр до неблизкой городской канализации он явно не собирался, оставляя это дело, стоящее многих миллионов рублей, будущему товариществу. Аргументы в своем чуть ли не убожестве и альтруизме лились потоком: что и этот дом – опять им в убыток; что все, собранное с дольщиков, – уже ушло на стройку; что ее завершение – идет чуть ли не из личного кармана.
Однако на наши собрания застройщик и строитель дома приезжали на очень неплохих автомобилях: один на грузном, высоком, крепко сбитом джипе «Volvo», другой – на чем-то низком, длинном и вытянутом, образца «Lincoln continental». Обе машины были черные, очень респектабельного вида, как испанские гранды. Рядышком, на парковке, они напоминали мне легендарную парочку из романа Сервантеса, в то недолгое время, когда герцог существенно поднял статус наших героев.