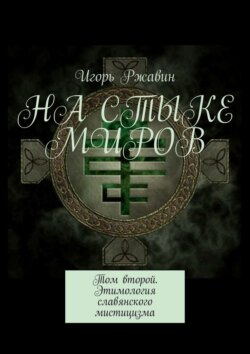Читать книгу На стыке миров. Том второй. Этимология славянского мистицизма - Игорь Николаевич Ржавин - Страница 10
Часть II. СЛАВЬ
(Продолжение)
Глава 14
ОглавлениеКудесник, Чудотворец
Испокон веков на Руси говорили, и всегда будут говорить «Пока!», только вот почему-то нынче принято считать это слово вульгарным и фамильярным, не ведая о том, что данная форма расставания гораздо древнее и значительнее, нежели относительно молодое «стремление свидеться». Чего только ни городили академики о происхождении свойского «пока», каких только трактовок ни давали этому слову учёные, забывая о том, или, предпочитая не замечать, что это всё же краткая форма, производная от полной формы покуда. Последнее не имеет никакого отношения к наречию куда, которое возникло путём сложения яКУю ДАль – как далеко?, а родом из старославянского понятия кудь – волхвованье, волшебство. Поэтому, опираясь на древнерусское словообразование кудесить – волхвовать, колдовать, заниматься чарами, ворожбой, заговорами, от существительного кудесы – чудеса, закономерно выводим его дочернее слово пока, как, своеобразный заговор на чудесную, в смысле ненарочную встречу, причём, не где-нибудь, а там, где обычно волхвовали, колдовали, занимались чарами, ворожбой, заговорами, то есть, на месте, как правило, большого скопления людей – святилище, капище и… куде (ср. с кимр. cuddfa – укрытие, клад, сокровище). А кудо (от др.-рус. куд – святой дух, у церкви – злой дух) или кудово (ср. с перс. куддус – святой, пресвятой, священный) – это как раз то место, где кудили – воскуривали, то есть, жгли фимиам (ср. др.-рус. Курент – бог веселья, с чеш. kouř – дым), благовония, волшебные травы, отсюда и кадить – чадить (ср. с чеш. čoud – чад), куда стекался народ для отправления богослужения (ср. с кимр. hud – колдовство, волшебство, чары, очарование, магия). Так вот, то самое место силы, именуемое на древнерусском поку́т – убежище, приют (ср. санскр. катам – лежанка, циновка, подстилка, с тадж. кад (а) – жилище, дом, помещение, селение, село), служившее для людей того времени точкой наибольшей вероятности чудесной, читай – волшебным образом, незапланированной встречи, находилось обычно на возвышении, холме или горе, которую впоследствии назовут КУДыкиной (ср. шв. höjd – высота, вышина, возвышенность, холм, с тадж. кӯҳ – гора), и являлось конечным пунктом в напутствии, подразумевающем: «с такого-то мига (называлось текущее время) по кудова дня» (ср. с кимр. cudd – секретный, скрытый, тайный), либо ПО КАди, от древнерусского кадь – кадка-купель, дубовый чан (ср. с диал. рус. чудок – чарка, косушка, чашка), отсюда и кадило – чадило (ср. с санскр. чайтья – подземный храм, ступа, котара – дупло, и ката – яма, углубление, дупло), что носило, разумеется, символический обряд духовного очищения (ср. с санскр. кадках – грязь), поскольку испокон веков бани на Руси стояли в каждом дворе. Предположительная градация выглядела так: ПО КУДОВА (дня) – ПО/КУДО (У) А – ПО/КУДА, а кратко, ПО/КА (ср. эспер. dume – пока, с лит. dūmai – дым), то есть, до того дня, когда будут кадить-кудить на краде – жертвеннике, у которого, предположительно, можно будет встретиться (ср. с лат. quoad – до тех пор пока, и credo – верю). И только многими веками позже «пока» превратилось в понятие, довольно отстранённое от изначального смысла, да ещё и разделённое на разные разумения (извините за тавтологию), как то: «до тех пор», «ещё не», «временно», «увидимся», по обыкновению путаемое с древнерусским пакы (наречие, частица и союз) – обратно, назад, опять, в обратную сторону, что никоим боком не лезет, ни в смысловую подоплёку, ни в буквальное строение самого слова. Тем более, что тогда же встарь существовал ещё на Руси и союз кед или кедь в значении «коль, раз, ежели, в то время как, до тех пор, пока, покуда», отсюда и диалектное русское наречие покедова – до свиданья, прощевай, до встречи, пока, покеда, покуда, покудова!
А теперь, непосредственно, о самом словообразовании, зиждущимся на понятии чудеса или кудесы, с корнесловом куд или чудо, которое пишется и звучит в следующих языках почти одинаково: болгарский, македонский, сербский, украинский чудо, белорусский цуд, боснийский, хорватский čudo, венгерский csoda, польский cud, словенский čudež, чева chozizwa, индонезийский, малайский keajaiban. И раз мы выяснили, что с тем же корнем в некоторых языках существуют понятия «дым», то попытаемся вникнуть в суть самого чуда как действа. Да-да, именно так, ибо в древнерусском языке, надо полагать, совершенно не случайно и вовсе неспроста, даже существовали определения, описывающие сам процесс создания чуда: чудодѣяти, чудотворити – делать чудеса, чудодѣяние, чудотворие, чудотворьство – совершение чудес, чудотворьныи, чудьныи – творящий чудеса. Как вы уже поняли, речь тут идёт о работе чудотворца, иже кудесника, судя по чешскому čoud – чад, по какой-то причине, связанной с неким таинственным «дымом». Это нам и предстоит сейчас выяснить.
На мой взгляд, под «дымом» здесь кроется образ духов, призраков и видений, посещающих кудесника и чудотворца, в момент его вхождения в изменённое состояние сознания, при проведении всевозможных инициаций, обрядов, ритуалов и других магических сеансов. Хотя, с другой стороны, те же самые духи, призраки и видения могут открываться и взору свидетелей творений кудесника или деяний чудотворца – тут уж всё зависит от уровня мастерства самого священника. А чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить общность корней в определениях дыма призрачного и настоящего в различных языках:
яванский kumelun – дым, чад ===> эстонский kummitus – призрак, дух;
вьетнамский khói – дым, чад ===> венгерский köd – дымка, туман;
прусский kuds – дым, чад ===> яванский kudus – призрак, дух.
Если теперь мы ставим знак равенства между словоформами чадить-кадить и чудеса-кудесы, то тогда мы автоматически подгоняем чад-кадь под чудить-кудить (ср. со шКОДить – исподтишка заниматься вредным озорством, из пол. szkodzić, от szkoda – вред, убыток). И действительно, из справки Фасмера мы получаем подтверждающие сведения:
«куди́ть кужу́ „подшучивать, проказить“, обычно проку́дить, проку́жу „сыграть злую шутку, напроказничать“, проку́да „проказа, ущерб, беда; проказник“, оку́дник „шутник“, др.-русск. кудити „бранить, порицать“, ст.-слав. коудити, коуждѫ, болг. ку́дя „браню, хулю“, сербохорв. ку̏дити, ку̏ди̑м „бранить, клеветать“, словен. kúditi – то же, польск. диал. prze-kudzić „портить, скучать, надоедать к.-л., наводить скуку“. Родственно др.-инд. kutsáyati „бранит“, нов.-перс. ni-kūhīdan „хулить“, греч. κυδάζω „осыпаю бранью“, ср.-в.-н. hiuzе „бодрый, дерзкий“, hiuzen „обнаглеть“, шв. hutа „кричать, шуметь“, англ. tо hооt».
Казалось бы, всё умение тогдашнего кудесника-чудотворца можно было бы уподобить лишь мошенническим манипуляциям современного иллюзиониста (ср. с др.-рус. дивъ, дивление, диво — чудо), только удивляющим зрителей (ср. с санскр. кутта – загадка), затуманивая их разум, и не более того (отсюда и оборот «напустить туману» – запутывать что-либо, вносить неясность во что-либо), если бы не одно «но». Дело в том, что в одном и том же корне куд, а точнее, в корневой матрице К-Д, и её мягкой форме К-Т, помимо значения «дух», заключён ещё один условно-обобщённый смысл «говор» (ср. с санскр. катхаа – разговор, беседа, рассказ), причём, не простой, а ещё и переложенный на знаки, закреплённый символами, и обладающий скрытой мощью, равносильно однокоренным определениям из фарси кух – страшилище (то, чем пугают детей), и ново-персидского kūhīdan – хулить. Ведь, кроме древнерусского понятия кудити, иже старославянского коудити — бранить, порицать, клеветать, откуда, собственно, и произошла клятва – не только проклятие, но и присяга (ср. с тадж. қасам, узб. qasam, хмонг lus cog tseg, сесото kano, суахили kiapo — клятва), существуют единородные словообразования в русских диалектах: кудерь – кудрявое письмо, почерк, кудрявая речь, слог, изысканный, украшенный, кудрявые мысли, трава от порчи, сглазу, уроки; кудрить – тазать, журить, распекать (ср. с санскр. чаатра – ученик); кадильщик – льстец; кудакать – калякать, болтать; кутимер – сплетник, доносчик, мутник, баламут. То бишь, получается, что кудь – это ещё и клятва, а кудить – соответственно, клясться. А всё почему?
Ответ на этот вопрос очень быстро находим в русском же языке, где кодола, кодоль – вериги, железные путы, вязи, цепи; а кодаш – товарищ, и ко́дла – группа, компания людей, проводящих вместе время, и занимающихся одним делом; ибо все они, образно «скованные одной цепью, связанные одной целью», как поётся в песне группы «Наутилус». Не оттуда-ли французское code «код, шифр», оно же латинское codex «свод правил, законов»? А вот какое это имеет отношение к дыму или духу (ср. с мальт. duħħan – дым) – вспоминайте значение слова КУДри, коль это «завитки», а дым всегда кудряво вьётся завитками, то и КОДаш со с своей КОДлой тоже повит КОДолью.
И ещё одно свойство, присущее характеру нашего «подследственного», без которого психологический портрет кудесника-чудотворца был бы неполным. Несомненной очевидностью является родство двух понятий: лицезреть или творить чудо – диво постижимо токмо способным чуять, ровно настолько же, насколько воспитание и просвещение чади – людей посильно лишь умеющим чаять. А это значит, что настоящий мастер кудес-чудес не может быть лишён такого качества души как ча́ять – думать, полагать, надеяться, ожидать, поскольку оно неотрывно связано с такой вечно сопутствующей чаязни, чертой норова как чу́ять – кого-что чувствовать, ощущать, познавать чувствами, преимущественно обонянием, угадывать, постигать, внутренне ощущать что-нибудь, знать, сознавать. Причём, врождённый или обретённый талант, не только обонять едва заметный чад беды (ср. с санскр. чаайя – тень), но и восприять чуть уловимый чутьём чуд прокуды, то есть, нашествие или присутствие потусторонних и враждебных сил, делает кудесника чудесным защитником, заступником и спасителем простого люда (ср. с санскр. чатра – зонтик).
Реснотный разбор корнеслова КУД (ЧУД):
Корневая матрица К-Д (Ч-Д) – носитель условно-обобщённого значения «кудерить-кудить-кудесить», иначе «чадить-чудить-чидежить». Примеры из русских диалектов:
чидега – бус, морось, ситник, морозга, моросейка, мороха, ситуха, ситовник, бусенец, мельчайший дождь, обычно с туманом; чидежить – чезнуть, исчезать, пропадать, раствориться; чедыги – женские чеботы, чекчуры, коты, башмаки (ср. с арийским ked – идти, ступать); чудый – юродивый; чудо-юдо – чудовище; чудный – дивный, удивительный, изумительный, необычайный, непонятный, непостижимый, редкий, превосходный, редкостный; чудесить – чудесничать, чудить, дивить, мудрить, делать что, придумывать, строить, хитрить, странничать, чудачить, дурить, проказить с умыслу, сумасшествовать, сумасбродствовать; чудиться – дивиться, удивляться, изумляться, даться диву; чудиться – представляться, мерещиться, видеться, казаться, мниться, быть под обаяньем, видеть или слышать мару, мороку, блазнить; чудесник, чудесница, чудитель, чудительница, чудиха, чудила – тот, кто чудит, чудесит, проказник, чудак; чудовин, чудовка – чудак, чудачка, человек странный, своеобычный, делающий все не по-людски, а по-своему, вопреки общему мнению и обыка; чудь (т. е. странный и чужой) – народ дикарь, живший, по преданию, в Сибири, и оставивший по себе одну лишь память в буграх (курганах, могилах); чудское – финское племя, чудь белоглазая; чудище – сказочное животное, страшилище небывалого вида, многоголовый змий, урод, тело необычайного построенья, урод нравственный, человек-изверг, свирепый злодей, большое, громадное животное, поражающее собою всякого, морское чудовище, кит, морж, слон