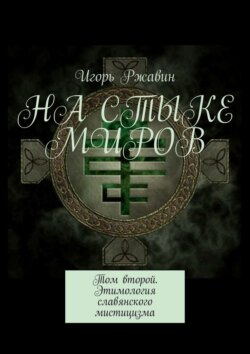Читать книгу На стыке миров. Том второй. Этимология славянского мистицизма - Игорь Николаевич Ржавин - Страница 3
Часть II. СЛАВЬ
(Продолжение)
Глава 7
Жрец
ОглавлениеСлово это настолько древно, что уже сегодня мы можем его растолковывать не иначе как только ассоциативно. Если мы вспомним своё детство, то что приходило первое на ум при слове жрец? В детской голове, естественно, всегда откладывается только одно понятие — «жрать». Удивительно, но так оно и есть, в самом деле. И мы не должны отступать от первоначального смысла, который заложен в этом слове. Вопрос в другом: если мы будем отталкиваться от понятия «жрать», то что, в действительности, оно означало в начале времён? Некая пикантность ситуации заключается в том, что в обывательской среде невольно складывается прямолинейное мнение, подобное следующему: раз существительное жрец — от глагола «жрать», значит жрец якобы является «пожирателем» чего-то. Но так-ли это на самом деле? Однако, согласитесь, ведь жрец – это, в первую очередь, священник, в полном смысле этого слова, как это видно на примерах в братских языках: болгарский свещеник – жрец; боснийский sveštenik – жрец. Ну, и что, он, отправляя свою службу, всю дорогу жрал что-ли? Нет, конечно! Следовательно, мы должны разобраться в самом слове жрать, потому что, если мы будем однобоко подходить к этому понятию, то нисколько не продвинемся в изучении данного вопроса, и будем всякое нестандартное толкование сего слова отсылать к некоей ереси, крамоле и так называемому язычеству, чего боятся, как черти ладана, все нынешние представители современного «государственного» культа. Со своей же стороны полагаю, что не нужно бояться русских слов, вообще, каких бы то ни было, а нужно просто разбираться в них, что мы, собственно, сейчас и делаем.
Давайте, с вами разберём на понятийном уровне такую вещь, вот слово «жрать» мы применяем в повседневной жизни? Да, естественно, но это слово у нас, почему-то, имеет некий негативный оттенок, по причине чего мы очень чётко разделяем в нашей речи понятия «жрать» и «кушать». В таком случае возникает вполне правомерный вопрос: чем выражение жрать хуже определения кушать? Ничем! Ведь, если последнее исключительно положительное слово, то как же тогда относиться к понятиям «искушение» и «покушение»? Ведь это однокоренные слова. Они что, носят положительный окрас? Нет. То же самое явление видится и в словообразовании жрать, от чего и произошло понятие «жрец», восприятие которого целиком и полностью зависит от степени личного восприятия каждого индивидуума. Так что же такое жрать, в своём первоначальном смысле?
Так, например, слово КУШать произошло от действа КУСать. Синонимом же ему служит слово жрать или пожирать. При этом, мы получаем корень, который уже находится в совершенно ином понятии – ЖИР. Все привыкли расценивать это слово как название вещества, имеющее маслянистую структуру, или, одним словом, сало. Но насколько это соответствует истинному положению производных от корневой матрицы Ж-Р? Ведь, если это было бы, действительно, так бескомпромиссно, что «жир – от пожирания», то не было бы в древнерусском такого значения слова жир как «богатство»! Если подразумевать, что слово жрец происходит от действа «жрать», то к этому же действу должно иметь такое же отношение, как и к жрецу, понятие «жертва», то есть, другим словом, треба – то, что приносили на капище во время отправления духовного культа.
Итак, рассматриваем сопутствующее исследуемым словам определение жертва (ср. с укр. жерти – жрать), корнем которого является ЖЕР, присутствующий в первоистоке – древнерусском слове жерава – горящий, раскалённый (ср. с др.-рус. жератъкъ – зола, и жаратъкъ – пепел). К чему это подталкивает? Да просто это подсказка: разумеется, к понятию «жар»! Вот теперь мы уже, помимо ассоциативного, включаем мышление абстрактное. Таким образом, мы приходим к тому, что корневая матрица Ж-Р, с модулируемыми гласными, выводит на ещё одну линию, связанную с огнём. И действительно, допустим, жар что делает? Он «пожирает», оттого и расширяется, вбирая в себя всё, что горит, то есть, иначе говоря, обогащается. Вот почему жир на языке роуськъ означал богатство. Более того, багатье на Руси означало «огонь», а само вещество жир, раскаляясь и воспламеняясь, хорошо горит, источая сильный жар! Вывод очевиден: поскольку, и жир, и пожирать, и жертва не являются носителями однозначно негативного смысла, так и однокоренное им слово жрец, не просто не есть олицетворение дикой «ненасытности», но и совершенно далеко от «прожорливости», вообще, какой бы то ни было, а напротив, является, прежде всего, духовным титулом служителя огня – жарца. Достаточно привести, в качестве семантического соответствия русской связке жар-жрец, пример из латыни, где flamma – это пламя, а flamen – это жрец!
Обратите внимание на нижеследующую подборку, хоть и не касающуюся напрямую исследуемого понятия, но как нельзя лучше характеризующую деятельность самого жреца как человека, не только имеющего отношение к обряду принесения символической жертвы, так называемой требы, которая возлагалась на краду (священный костёр), но и является служителем древнейшего славянского культа огня, провозвестника современного Вечного Огня – духовной традиции, почитаемой нашим народом, и бережно соблюдаемой в нашей стране до сих пор:
Боснийский, Хорватский žrtva – жертва;
Сербский, Македонский жртва – жертва;
Словенский žrtev – жертва;
Албанский zjarr – палить, огонь, сжигать;
Сербский пожар – палить, огонь, сжигать;
Словацкий požiarne – палить, огонь, сжигать;
Словенский požar – палить, огонь, сжигать;
Чешский požární – палить, огонь, сжигать;
Древнерусский съжагати – палить, жьрение, жьрѣти – жертва; жаръ – огонь, пожаръ – костёр, пожьрѣти – принести жертву.
Как видите, с помощью родственных славянских словоформ, мы подходим к пониманию общности происхождения таких разных, но однокоренных понятий как жратва — жертва — жерава — жарево — жарить – жарец — жрец. А градация, непосредственно, самого словообразования жрец, во всей её очевидности, была такова: ЖЕРти (т. е. жертвовать, от жерава – огонь) – ЖРети (т. е. жарить, от гьрѣти – жечь, палить, топить) – ЖРец (жарец, от пожьрѣти – пожертвовать, читай «пожарить»). Ведь широко известна комбинаторика согласных Г-Ж-З в русском языке, на примере боГ-боЖе-боЗе, что подтверждается санскритскими определениями: гар, гара – огонь; гарбхам – желудок, гарда – жадность, гури – светлая, джъотьих – свет (ср. с рус. жжёт), заир – жажда. Сравните: сербский горети – жечь, древнерусский жегъчии – истопник, и роуськъ истъбьникъ – кочегар. Более того, в старославянском съгрѣние – тепло, а горящина – теплота, ровно так же, как в валлийском gwres – жар, испанском horno – печь, и в таджикском гармӣ – жара. А вот как переводится понятие «жечь» на родственные, и не очень, языки: баскский erre, болгарский изгаряне, македонский горат, румынский arde, сербский горети, словацкий horieť, словенский gorijo, чешский hořet. Теперь, посредством вариаций последних согласных в корнях слов ЖАРить, ЖЕЧь и сЖИГать, выходим на однокоренное устаревшее жагра – запал.
Однако, представление о жреце, в его словесном определении, как исключительно о некоем «кочегаре, истопнике и костровом», было бы неполным, если бы в семействе однокоренных ГАРь и ЖАРа отсутствовало бы родственное слово ЗАРя, но оно есть, и в нашем исследовании нам никак не миновать целой линейки однокоренных смысловых созвучий, не только в русском, но и других языках мира, например: санскрит зрита – стол (не мебель, а продукты), что по звучанию вовсе не случайно сливается с русским зрить, ибо по смыслу также совпадает с таким европейскими понятиями как «провиант» (от лат. provianda) и «провизия», из латинского provisio – предусмотрительность, производное от providēre – предусмотреть, предвидеть, родственного русскому «видеть». Значения эти ничуть не чужды по смыслу и русскому снабжение, от С/НА/БДИТЬ, где С и НА приставки, а бдить – глагол, означающий «смотреть». Вот почему санскритское зрита – это не только «стол», подразумевающий конструкцию, на которой располагаются кушанья, а, непосредственно, сама еда, поскольку слово это несёт в себе ещё и такие значения как «заправляться, перекусывать и утолять жажду». А жажда от чего возникает? Естественно, от жара, и внутреннего, и внешнего. В этом случае, мы сталкиваемся с родственной жаре корневой матрицей З-Р, аналоги чего есть и в русском языке, например, если жара – это описание температурного режима, то заря – это уже описание визуального аспекта одного и того же процесса. Здесь мы сталкиваемся с таджикским понятием зар – золото, которое по своему визуальному эффекту ассоциируется с зарёй, что подтверждается единородными русскими золото и жёлтый. Поэтому у западно- и южно-славянских народов по разному произносимое Золтан и Жолтан – по-сути, одно и то же имя Zoltán, в значении «золотой». В том же фарси находим слово зарар – зло, что в русском языке является единым по происхождению со словом злато. И такое совпадение не удивительно, поскольку в нашем языке, например, зелье – это одновременно, и яд, и лекарство. Это лишний раз подтверждает нашу мысль о том, что в русском языке не бывает, ни «плохих», ни «хороших» слов, все они равны по своей весомости, и вот вам доказательство: блага – у нас «добро», а у белорусов блага – это «зло». Отсюда и действительный изначальный смысл таких фраз как: «благими намерениями вымощена дорога в ад», и «орёт благим матом», то есть, истинное значение данных выражений заключается в прямо противоположном – «злыми намерениями вымощена дорога в ад» и «орёт злым матом».
Возвращаемся к однокоренным словам жрец, жертва и жрать, у которых есть родственный корень и в исконно русском древнем имени Жора. Исходное значение этого имени, не смотря на однокоренное понятие обЖОРа (что тоже не имеет исключительно отрицательного смысла, поскольку хорошо кушающий младенец, в принципе, вырастает потом здоровым человеком) заключается ещё и в том, что родители могли называть им своё чадо, загодя наделяя его навыками, способностями и знаниями «жарца», то бишь жреца. Сам же процесс пожирания может называться как «жор», так и «жрание», что находит отзвук и в английском shrine [ʃraɪn]; [ʃrʌɪn] – святыня, по сути одна и та же основа слов ЖРАН и ʃRΛIN, как, собственно, и в словах СИЯНие и ʃΛIN, где английское shine [ʃaın] – это свет, сияние. Оттуда же и обозначение светлого времени суток – слово день в различных языках, косвенно связанное с «огнём, всем горячим, всяким ожогом и жарой»: баскский egun, итальянский giorno, румынский zi, французский jour, азербайджанский gün, индонезийский hari, филиппинский araw, гаитянский, креольский jou. Таким образом, через однокоренные ГАРь, ЖАРа и ЗАРя, мы выходим на визуальный аспект буквального значения слова жрец, а именно за́риться – смотреть, от вЗОР и ЗОРко, что приводит нас к пониманию ещё одной из граней определения «жрец»: помимо ГРеца как кочеГАРа, и Жреца как ЖЕРтвоносца, мы вправе рассматривать его ещё и как ЗРеца (ср. с белор. зрэнец – зрачок, и назира – наблюдатель), то есть, того, кто зрит – наблюдает не только за звёздами, календарём, временем сбора урожая и посевной (ср. рус. зерно, зёрна и жернов с тадж. зореъ – землевладелец, крестьянин, пахарь), но и является своего рода блюстителем и хранителем знаний, закона, традиций и обычаев. Сравните русские слова заря, зори, взор и взирать с украинским зірка – звезда, и белорусским позірк – взор. Есть в языке фарси такое слово как зӯр – сила, мощь, могущество; однако, таджики его применяют и в переносном смысле, как «великолепие» или «блеск», поскольку в том же персидском зориб – ударяющий, чеканщик, от работы коего зачастую летят искры, тем более, что зардина по-таджикски – это «рыжеватый», а по сути золотистый или златовласый. Поэтому жреца, иначе зреца, мы уже видим в качестве не только свЯщенника, от древнерусского свято – праздник, священный день, знаменательная дата, но и свЕщенника, то есть просветителя, вспомните болгарский свещеник – жрец, и боснийский sveštenik – жрец. И в действительности, жрец во все времена занимался просвещением народа, что подтверждается однокоренными с ним словами во французском jury [ʑʉˈrʲi]; [ʐʊˈrʲi] – правовой, законный, порядочный; и русском журить – распекать (от «печь, жарить, топить, жечь»), упрекать, пенять, бранить, корить, отчитывать, выговаривать, ругать и (внимание!) усовещать, от совесть – совместная (с богами) весть. Попытайтесь теперь представить себе: как могли бы на Руси называть журителя общественных нравов (читай «надзирателя»), призывающего всех к совести? Ну, наверное, либо вульгарным «журила», либо вельможным «журец», правда? Сравните диалектное русское жерц – жрец, с мальтийским ħarsa – взор, глядеть, смотреть, взирать, и литовским žiūrėti – взор, глядеть, смотреть, наблюдать, взирать! Так вот, последнее, в связи с безударной гласной в первом слоге, запросто могло потерять и её, по причине быстрого произношения всего слова целиком, и, как следствие, неизбежной редукции буквы У: журéц => жрец. Отделите приставку pri– в литовском prižiūrėtojas – смотритель, надзиратель, и прочтите быстро основу слова žiūrėtojas, в результате вы услышите žiūrėtas, а ещё короче žrėts – практически, жрец! Сравните: латышский ārsts – врач, лекарь; немецкий Arzt – врач, лекарь; эстонский arst – врач, лекарь; бретонский arzour [ˈarzur] – бард; маори ariki – владыка, валлийский arglwydd – владыка.
Итак, пройдя все этапы фоно-семантического анализа слова жрец, мы с вами убедились в том, что любое слово в русском языке следует рассматривать, так сказать, в 3D формате, поскольку оное является объёмной и многомерной структурой, шлифовавшейся веками. А если мы будем судить о слове, и воспринимать его однобоко, то, по-сути, нам будет открываться лишь одна из многочисленных его сторон, не открывающая всего того богатства, в него заложенного, а главное, снимая кальку только с одной из граней того или иного определения, мы ни за что не узнаем его исходного звучания, и соответственно, истинного его смысла.
Реснотный разбор корнеслова ЖР:
Корневая матрица Ж-Р – носитель условно-обобщённого значения «жарить-жертвовать-журить». Примеры:
бретонский jar – сиеста; русский жерва, жерства – еда, пища; жерц – жрец; журиться – горевать, грустить, печалиться; журенье – брань, выговор, гонка; журба – печаль, горе, кручина.
Корневое ядро Ж – матрика «жима», причём, во всех его проявлениях, основанных, как на физических принципах, так и психологических. Оттого все слова, содержащие в себе корневое ядро Ж, непосредственно или опосредованно, рождены простейшим выражением некоего жужжания, неизбежно производимого всяческим сжатием во время какого бы то ни было напряжения, вызывающего мелкую дрожь, вибрацию (ср. диал. рус. жах – страх, испуг, робость, и жук – отряд жесткокрылых насекомых). Таким образом, первобытный аудиоген [ЖЖ] – это отправная точка возникновения таких корнеслов, типа, жар-жир-жор, и его производных, а также, к примеру, следующих полновесных слов: жена, жнивьё, жесть, ужас, жадность, жеребёнок, жизнь, ожидание, жало, жевать, жалость, желание, и так до бесконечности (ср. с анг. jade [dʒeɪd] – заезженная, jaded [ˈdʒeɪdɪd] – заездить, jam [dʒæm] – сжимание, jar [dʒɑː] – ссора, jaw [dʒɔː] – жевать, зёв, желваки, jazz [dʒæz] – живость, jeremiad [ˌdʒɛrɪˈmaɪəd] – жалобы, jerk [dʒɜːk] – дёрганье, jointure [ˈdʒɔɪntʃə] – записанное на жену, закрепить наследство за женой, jowl [dʒaʊl] – жвало, челюсть, junior [ˈdʒuːnɪə] – юный, just [dʒʌst] – чуть).
Р – матрика «рвения», в зачатке своём имеющая природный аудиоген [РР], вербально озвученный обычным рыком-рявканьем-рокотом-изреканием, психологически всегда воспринимается нами как некий поРЫВ, РЕТивость и РЕЗкость, поэтому ассоциативно визуализируется с расходящимися концентрическими кругами, поскольку физически это обусловлено часто повторяющимися ритмическими колебаниями времени и материи, что в совокупности и произвело когда-то в нашей РОДной РЕЧи такие понятия как: рот, рука, река, ров, ругань, ревность, радость, радуга, рада, радение, рок, руда, орудие, рыжий, рожь, русич, рыскать, рыть, рог, решение, и великое множество слов с корневым ядром Р, любое из которых не будет лишним в этом РЯДу (ср. с анг. racket [ˈrækɪt] – грохот, rag [ræɡ] – дразнить, raid [reɪd] – решительно, rake [reɪk] – рыхлить, рыться, rasp [rɑːsp] – резкий, резать, rave [reɪv] – реветь, ravel [ˈræv (ə) l] — разрывать, ray [reɪ] – радость, raze [reɪz] – разрушать, reach [riːtʃ] – река, поражать, read [rɛd] – речь, reave [riːv] – рвать, recite [rɪˈsaɪt] – читать, reckon [ˈrɛk (ə) n] — решать, retch [rɛtʃ] – рыгать, ribbon [ˈrɪb (ə) n] – обрывки, rift [rɪft] – разрыв, rig [rɪɡ] – наряжать, рядок, резв, rigour [ˈrɪɡə] – строгость, riot [ˈraɪət] – нарушение, rip [rɪp] — рвать, rive [raɪv] – разрываться, river [ˈrɪvə] – река, рубеж, roar [rɔː] – рёв, рокот, robust [rəˈbʌst] — работа,, roll [rəʊl] – рокотать, rough [rʌf] – резкий, режущий, рябить, rout [raʊt] — рыть, row [rəʊ] – ругань, rubble [ˈrʌbl] – рваный, rude [ruːd] – резкий, ruffle [ˈrʌfl] – рябь, ругаться, ruin [ˈruːɪn] – рухнуть, rule [ruːl] – рулить, run [rʌn] – равняться, rupture [ˈrʌptʃə] – прорыв, обрыв, рвать, rush [rʌʃ] – брошен, порыв, rustle [ˈrʌsl] – хрустеть).
Вывод: исходное значение корнеслова Ж/Р – это «Жечь Рьяно», либо «Жать Ретиво», причём, вовсе неважно: в жатве ли, в ратном труде, либо даже в проповеди, что в дальнейшем получило смысловое наполнение такого образа как Ж/Рец, который буквально «Журит, Радея», то есть учительствует, а также следит за порядком и справедливостью в обществе.