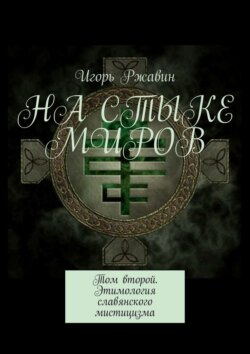Читать книгу На стыке миров. Том второй. Этимология славянского мистицизма - Игорь Николаевич Ржавин - Страница 6
Часть II. СЛАВЬ
(Продолжение)
Глава 10
Лекарь
ОглавлениеВ противовес понятию врач, рассмотренному в предыдущей главе, определение лекарь, с точностью до наоборот, изначально было обозначением целителя, как такового, а затем стало обретать уже характерные черты наименования «человека заговаривающего», и только относительно недавно вернувшегося в родное медицинское лоно. Вот лишь несколько примеров вариаций, по-сути, одного и того же исходного образования, но с разным произношением, толкованием, и значением, получившего в разных краях, говорах и временах Руси свой конечный смысл, не совпадающий со своим современным собратом лекарем: лявзарь, ляжжарь, лязжарь, лязгарь, лящарь, лещарь, ляскарь, лескарь, что во всех случаях обозначает почти всегда одного и того же человека, обладающего искусством заговора и умением лечить словом (ср. с бретон. luskellat [lysˈkɛlat] – баюкать), а именно – баять, болтать, беседовать, говорить, рассказывать (отсюда и жаргонное «Чё ты меня лечишь?», либо «Не лечи меня!», сленговый оборот «лечить» – то же, что «заговаривать зубы» – темнить, «вешать лапшу на уши» – обманывать, а также поучать с излишними и ненужными наставлениями). И занималась этим ляса – прелестница, обольстительница (не путать с соблазнительницей!), или занимался тем же лясарь, лясник или льстец (ср. с фин. ylistys – хвала), то есть рассказчик (ср. с лат. lector – рассказчик, дьяк, дьячо́к, приче́тник, чтец).
Обратите внимание, как именуется лекарь в разных языках мира: датский læge, исландский læknir, норвежский lege, польский lekarz, словацкий lekár, украинский лікар, финский lääkäri, хорватский liječnik, чешский lékař, шведский läkare. А теперь посмотрите, насколько это близко по смысловому созвучию к значениям в экзотических языках: сесото leselamose – маг, волхв, чародей, прорицатель, волшебник; хмонг laus – старец, старейшина; йоруба Alàgbà – старец, старейшина; индонезийский lebih tua – старец, старейшина; чева aulosi – пророк, вещий; зулу laphezulu – набожный; сесото lenģosa – вестник, вещатель.
Перевод слова «лекарь» на датский læge и норвежский lege, невольно вызывает ассоциацию с русским именем Олег, и не зря! Вот выдержка из моей книги «Как тебя зовут»:
«Не знаю, насколько это вас впечатлит, но для меня явилось полной неожиданностью обнаружение этимологических связей имени Лёша с другим не менее широко распространённым в России званием… Олег! И это не смотря на то, что официально, также и в народной среде всегда считали Лёшу производным от имени Алексе́й (ɐlʲɪkˈsʲej), греческого происхождения, восходящего к древнегреческому Αλέξιος, образованного от ἀλέξω – «защищать», «отражать», «предотвращать», а на самом деле, ничего общеисторического и общекультурного с ним не имеющего. А пришёл я к такому заключению, благодаря одной находке в «Википедии», больше напоминающей разведданные из досье:
«Олег
древнескандинавское (??? – Прим. авт.)
Род: муж.
Этимологическое значение: «святой»
Отчество: Олегович; Олеговна.
Женское парное имя: Ольга
Производные формы: Олегушка, Олежка, Олеся, Оля, Олюся, Аля, Лега, Лёка, (и внимание!) Лёша;
Иноязычные аналоги:
арм. Աղեկ (Алек); белор. Алег; болг. Олег; нем. Helge, Helgo; укр. Олег; чеш. Oleg; дат. Helge; серб. Олег; швед. Helge».
А вот, что «всем известно» об Олеге:
«Оле́г – русское личное имя, предположительно, восходящее к скандинавскому Hélgi (от др.-сканд. heilagr – „святой“, „священный“)».
Так вот, это самое «предположительно», на мой взгляд, даёт нам полное право усомниться в производности древнерусского имени Оль́гъ от скандинавского Helge, хотя бы только в силу исторической реальности, а она такова: никаких «викингов» из числа «древних» шведов, норвежцев и датчан новгородцы к себе «княжить» не приглашали – по тем временам это всё равно, что добровольно сдать себя в плен и рабство! Трудно себе представить, что такой сильный и талантливый народ как славяне, строившие города-крепости, в отличие от викингов-селян, могли быть настолько бесхребетными, безвольными и бестолковыми, чтобы сдать себя «с потрохами» ни за что. Одно только это обстоятельство показывает абсурдным называть своего верховного предводителя иноземным прозвищем Хельге, пусть даже и в русифицированном до неузнаваемости варианте Олег. На самом деле, новгородские словене предложили своим западнославянским сородичам – южно-балтийским русам поработать в «наряде» – то есть, как бы сейчас сказали, «дружинниками по охране общественного порядка». Видимо, для самих коренных, зажиточных граждан была «эта служба и опасна, и трудна…», но не престижна.
Таким образом, ещё не успев отойти от скандинавского следа в имени Олег, мы тут же натыкаемся на чистую копию его женской формы Ольга в древнерусском словообразовании ольга – топкое болото. Как?! Неужели подобным понятием наши Славные Предки могли наделить имя для своих детей? И вот тут вовремя всплывает подсказка:
во-первых, Вольга́ Святославич (также Волх Всеславьевич) – этот герой русских былин, богатырь, основными отличительными чертами которого являются способность к оборотничеству и умение понимать язык птиц и зверей, почему-то подозрительно напоминает историческую фигуру Ве́щего Оле́га – князя новгородского с 879 года и великого князя киевского с 882, тоже обладавшего экстрасенсорными способностями;
во-вторых, имя Вольга сливается своим звучанием с названием реки Во́лга. А этимология этого слова, по словам Фасмера, ведёт к праславянскому Vьlga, ср. во́лглый, польск. wilgoć «влажность», с другой ступенью чередования: русск. воло́га, ст.-слав. влага. Того же происхождения и Вологда.
Каким же образом в одном имени Олег иже Ольга могут быть увязаны такие несовместимые понятия? Не будем пока «гнать лошадей», и спокойно продолжим изыскания. Следующие созвучные образования, хотя и никак не касаются смысловой базы изучаемых имён, зато невольно подталкивают к нужному направлению следования: вольха – вольховник, дерево ольха, ольшаник, ольшняк; и, соответственно: ольха – вильха, вольха, елоха, елха, елшина, лешинник, олешник, олех, ольшняк. Не имеет смысла разбирать преемственность последних производных от ель, ёлка, по наличию схожих плодов – шишек (ср. рус. леши́на – ольха, с др.-рус лѣший – лесной, поросший лесом). Тут ведь пока не важно конечное значение приводимых определений. Главное, уловить едва заметные нити причинно-следственных связей с первичными признаками. К примеру, упомянутое олешник, наверняка, легло в основу малоросской фамилии Олешко, в то время как однокоренное лешинник, могло иметь отношение к возникновению другой украинской фамилии Ляшко, причём, опосредованно:
первое – через корнеслов «леха́ „грядка, борозда“, укр. лiха́ „ток, грядка“, блр. леха́ „межа, борозда“, ст.-слав. лѣха, болг. леха́ „гряда, мера площади“, сербохорв. лиjѐха „грядка“, словен. lẹha, чеш. lícha „поле, дол; мера площади“, польск. lесhа, в.-луж., н.-луж. lěcha. Из праславянского loisā; ср. лит. lýsia, lysvė, др.-прусск. lyso „клумба“, д.-в.-н. wagan-leisa ж. „колея от повозки“, ср.-в.-н. geleis „проторенная дорога“, лат. līrа „борозда на пашне“ (leisā), далее – гот. laists „след“, д.-в.-н. leist „след, (сапожная) колодка“, гот. laistjan „преследовать“»;
а второе – через однородный корнеслов «лях [стар.] „поляк“, др.-русск. ляси, вин. п. мн. ч. ляхы „поляки“ (часто в Пов. врем. лет), отсюда польск. lасh; первонач. др.-польск. *lęch „поляк“, представленное в лит. lénkas „поляк“. Полная форма этнонима была в праславянском lęděninъ – от lędо (см. ляда́) „обитатели пустоши, нови“, что подтверждается формой др.-русск. лядьскыи „польский“, лядьская земля „Польша“, лятский – то же; ср. фам. Ля́цкий, далее др.-русск. полядитися „ополячиться“, укр. лядува́ти „придерживаться польского образа мыслей“; венг. lеngуеl „поляк“ – из проторусского lęděninъ».
И та, и другая выдержки из Этимологического словаря русского языка сходятся в одном – что лех «гряда», что лях «поляк» (буквально «живущий ПО/ЛЯХу»), оба словообразования родственны однокоренному русскому лог – дол, ложбина, овраг, луг, что как раз и имеет связь, не только с рекой (ср. с тат. елга – река), но и с её названиями, где чётко прослеживается древний пракорень, а точнее корневая матрица Л-Г, посмотрите внимательно: ВО/ЛОГ/ДА – ВО/ЛГ/А – В/ЛАГ/А (ср. др.-рус. лагвица – чаша, с перс. лаган – таз, лохань, поднос). Ещё одно ответвление этой корневой матрицы – корень ЛЕГ (ср. греч. λεκάνη [лэкани] – миска, таз, с белор. легчы – лечь), либо его сжатая форма ЛЬГ (ср. тюрк. legin – сосуд, укр. лягти – лечь), собственно, и составляет костяк имён: О/ЛЕГ или О/ЛЬГ/А, где явно усматривается слоговой «атавизм» в первой гласной О, как след от изначально полной приставочной формы ВО- (В-). А с учётом пометки Фасмера о том, что «… полная форма этнонима (лях) была lęděninъ – от lędо (см. ляда́) „обитатели пустоши, нови“», приходим к логическому выводу о косвенном родстве по древнейшей корневой основе двух независимых имён: мужских ВО/ЛЕГ – В/ЛАД, и женских ВО/ЛЬГ/А – В/ЛАД/А.
Тем не менее, нельзя категорично заявлять, что последние имена совершенно идентичны в своём значении, однако, с достаточной уверенностью можно говорить о вендском (западнославянском) происхождении имени Лёша, с его всевозможными вариациями, которые, при грамотном расположении, выстраиваются в показательную градацию: ВО/ЛЕГ – О/ЛЕГ – О/ЛЕХ – ЛЕХ – ЛЁХ/А – ЛЯХ – ЛЯШ/КО – О/ЛЕШ/КО – А/ЛЁШ/КА – О/ЛЕЖ/КА.
Не лишним будет сопоставить собственные выводы с довольно распространённым именем «Лех, Леш, Лешек – имя славянского происхождения, значение не ясно; возможно, от глагола со значением „хитрить, лукавить“, родственного совр. русскому „льстить“. Польский (Polski) м. Lech (Лех), Lesz (Леш), уменьшительные – Lesio (Лещо, Лесьо), Leszek (Лешек), Leszko (Лешко). Чешский (Čeština) м. Lešek (Лешек), уменьшительные – Leša (Леша), Leška (Лешка), Lešík (Лешик). Имя происх. от польск. Leszek – уменьшительной формы имени Lech».
Теперь о смысловом наполнении столь разнообразного по форме имени. Помня о том, что корневая матрица Л-Г является носителем условно-обобщённого значения «лог-лёг-лаг», мы с абсолютной очевидностью находим ЛОГическое объяснение буквального сходства древнего исконно русского имени Олег с латинским словообразованием lego (legi, lectum) – завещать, набирать, поручать, собирать, читать, в чём сразу видится прямое соответствие эпитету княжеского имени исторического лица – Вещий (ср. с эст. lugija – проповедник)! С производными латинского слова увязываются и остальные титулы вождя: английский legate, испанский и португальский legar, французский léguer, которые в точности отображают качества и свойства, как самого князя, так и первородного значения его имени. То бишь: Олег – это буквально «приЛЕЖный», «поЛОЖительный», «скЛАДный», а потому и «сЛОЖный» «изЛАГатель», по-сути, «вещун», что согласуется с определением слагатель – народный певец, сочинитель народных песен и былин (ср. с лит. lasioti – собирать). Изящное владение словом сочетается в этом имени и с необходимыми способностями государя – «почитатель» (предков) и «собиратель» (земель). Неслучайным в этом ряду становится и латинское legenda – история, от глагола legere – читать, собирать, а также однокоренное ему legion – отборное войско, числом от 3—6 до 10 тысяч, от латинского legiō – сбор, счёт.
Главное, мы с вами пришли к пониманию, что так называемые варяги – это не этнос, а профессиональное военное сословие западных русов, кстати, с берегов южной Балтики (о. Рюген, Пруссия), но никак не со Скандинавского полуострова. А это значит, что Олег – князь, да имяносец, никогда не был Хельге!»
Вернёмся к искомому слову лекарь. Вышеизложенное расследование показывает, что в этимологическом аспекте исконно русское имя Лёша-Лёка родственно словообразованию лечитёль-лекарь, имя Олег-Вольг однородно определению сЛАГатель, а в семантическом плане корневая матрица Л-Ч (Л-К) связана с понятием лу́чше – др.-русск. лучии, ст.-слав. лоучии, лоучьши, лоуче, в значении «более подходящий», от лучи́ть из праславянского lǫčiti, первоначально, «гнуть, связывать», в последующем включившем в себя целый ряд смыслов: смотреть за чем-либо, выжидать, метить, попадать, бросать, получать, ждать, дожить, искать, поджидать, глядеть, пытаться, цель, намерение, соединять. Отсюда делаем вывод о том, что главное призвание лекаря-лечителя заключается в безусловном уЛУЧшении состояния духа и плоти страждущего, посредством присмотра за ним, в самом широком смысле этого слова (ср. с анг. look [lʊk] – смотреть, рассматривать, выглядеть, казаться, взгляд, вид, похоже; like [laɪk] – любить, понравиться, нравиться, полюбить, хотеть, предпочитать, желать, словно; luck [lʌk] – удача, везение, счастливый случай, фортуна, счастье, успех, повезти, везти, посчастливиться). А поскольку глаголы ЛЕЧить и ЛЕЧь одного корня, то, помимо первостепенной задачи – уЛОЖить больного, как необходимого условия для лечения, приЛЕЖность – старательность, является основным качеством в работе всякого лекаря: сравните русское лёг и ляг с датским læge и норвежским lege – лекарь.
К самому же образованию ЛЕКарь всё вышесказанное имеет отношение посредством единородного слова лека́ло. Древнерусское лѫкати (ѫ – носовой звук) значило «сгибать» и было одного происхождения с «лук», «излучина», «лукавый», отсюда «лекало» – то, по чему гнут, изгибают. То есть, однокоренные понятия обЛЕКать и обЛЕЧь (сравните обЛАЧить и обЛАКо) наделяют лекаря-лечителя дополнительными навыками по облачению пациента, как в обЛАТку энергетическую – защитное биополе, так и хирургическую – наЛОЖение швов, снадобий, зелий мазей и повязок на раны.
Реснотный разбор корневой платформы ЛЕК (Ч) АР:
Матричная основа Л-К-Р (Л-Ч-Р) – носитель условно-обобщённого значения «лечить-облечь-прилечь». Примеры:
древнерусский лек (от старо-слав. лѣкъ «останок») – игра в кости, личба – число, счет; лука – изгиб, извилина; лукарево – извилисто, лукно – лукошко, лыченица – лапти, лекъ – лак, лечить – лачить, лакомство – еда, вкусности, лекарство; лача – лад, образец, способ; лечкать – лакать, пить; лечить – личить, считать; лечи – лечь, ложиться; леко – лекарство, средство, снадобье, зелье; лека, лекуба, лечба – леченье, пользованье, целенье и самое лекарство, снадобье; лечец – лекарь, лик – счет, число; лик, лицо, личина – облик, обличие; выражение лица, поличье, изображение, образ, хоровод, круговая медленная пляска с песнями, танок, улица; ликовать – торжествовать, праздновать шумно, веселиться гласно, радоваться, оглушать воздух кликами радости; лики – радостные крики, возгласы; лаковник – принадлежащий к лику, член, собрат, кто ликует, ликователь; личман – образок, локта, локота – разговор, беседа, совещание; локчить – помечать зарубками, метить при переносе сруба; лукас (от лукавый – изворотливый) – волк, бирюк;
санскрит лакша – лак, лека – линия, лок – картина, локика – обычный, лука – простой;
фарси лак – старые изношенные вещи, бессмыслица, пустословие, дурак, глупец, скряга, сто тысяч; лакдирой – болтун, лакка – пятно, клеймо, позор, пачкать, пятнать, позорить; лачак – косынка, платок; лақаб – прозвище, прозвание, кличка (людей); лақва – паралич лица; лақит – найдёныш, подкидыш; лақлақ – болтовня, пустословие, болтать, говорить попусту, трещать; лақулуқ – старьё, ветошь, хлам, скарб; лек, лекин – но, однако, а, впрочем, тем не менее; ликкондан – вилять хвостом (о животных); лиқо – лицо, лик; лиққонак – шаткий, неустойчивый, тряский, зыбкий; лиққондан – трясти, болтать, взбалтывать; лук – жалкий, ничтожный, униженный, хромой, калека; лукидон – деревянный дверной запор, щеколда; лӯкка – трусца, мелкая рысь, медленно ходить, еле-еле передвигаться; луч – голый, нагой, обнажённый, раздетый; гол, как сокол; голышом; лучи – нагота, обнаженность; луччак – лишённый, облысевший; лаҷом – узда, поводья, держать в узде, укрощать; лаҷоҷ – упрямство, упорство, неуступчивость, злоба, злость, излишек, избыток, крайность; лоҷ (у) вард – лазурный небосвод, небесная лазурь, безоблачное небо; лоҷарам – поневоле, волей-неволей, вынужденно, поэтому, вследствие этого; лоҷуръа – полностью, всё до капли (о жидкости); выпивать всё до капли; луҷҷа – середина реки, самое глубокое место в реке или море.
Итог: буквальное значение словообразования ЛЕК/АРЬ (ЛЕЧ/ЕРЬ) – изначально обЛЕКать (обЛЕЧь), иже обЛАТать (обЛАЧить), то бишь, защитить от: порчи, сглаза, морока, маньи, проклятия, ран, язв и т. д. ЯРый, читай «могущий, умеющий»; многим позже смысл слова сместился в вербальную плоскость (словесную, устную), обретя диалектную форму ЛОКТ/АРЬ, ЛОКОТ/АРЬ, ЛЕКТ/АРЬ, то есть, ЛОКОТать, ЛЕКТать, в смысле, загово́рами лякать – пугать нечистую силу ЯРый; и только относительно недавно слово лекарь (лечитель) уже получило своё конечное определение «целитель».