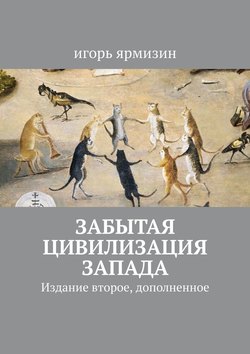Читать книгу Забытая цивилизация Запада. Издание второе, дополненное - Игорь Ярмизин - Страница 15
Часть 4. V – XII века: основные черты
Глава 8. Мир животных
ОглавлениеДалекие от проблем средневековья любители котиков пишут в ФБ: «Коты в средние века: трудолюбивые, ходили в церковь, вносили вклад в развитие общества». И противопоставляют их нынешним: «неблагодарным, ленивым и атеистам».
В Средние века мир людей не был отделен непреодолимой преградой не только от загробной обители мертвых или от разных леших, ведьм, кикимор и русалок, но и от более привычного нам мира животных. Все эти пространства переплетались, взаимодействовали и составляли единый универсум.
Да, животные, птицы, рыбы стояли на более низкой, чем человек ступеньке, но были такими же представителями сотворенного богом мира. Так что даже последняя блоха, таракан, вредное насекомое, – все они своим существованием поют славу Господу. И в этом смысле они стоят практически наравне с человеком. И вообще природа была не бездушной биосферой, а языком, на котором Бог говорил с людьми. Надо было только понять этот язык.
Средневековье признавало и права, и обязанности животных. Они регулировались обычными законодательными и нормативными актами. Звери, птицы, насекомые в средние века были субъектами права и несли юридическую ответственность за свои деяния. Если их деяния попахивали уголовщиной, люди сначала пытались решить конфликт в досудебном порядке. В основном, обращаясь за заступничеством к высшим силам. Например, к св. Гертруде Нивелльской, покровительнице котов и мышей, обращение к которой избавляло от засилия последних, или даже на самый «верх» с просьбой «Богородица, мышей прогони». Если вредительские действия продолжались и после этого, «потерявшим берега» животным кричали что-то вроде «встретимся в суде», после чего подавали исковое заявление. Начиналось непростое судебное разбирательство. В ходе его несознательные фигуранты дела постоянно желали увильнуть от возмездия, используя для этого все уловки.
Процессы над хвостатыми подсудимыми велись с соблюдением всей процедуры и не вызывали ни у кого удивления (кроме самих ответчиков). В большинстве случаев общины подавали исковое заявление против «неопределенного круга» лиц животного и насекомого происхождения из-за претензий последних на урожай. Представитель деревни являлся в места обитания ответчиков и вызывал их в суд. В случае неявки (равно как и при проигрыше в суде) мерами воздействия служили заклинания, проклятия и даже отлучение от церкви.
Судья повелевал этим существам, опять-таки под угрозой божьего проклятия, в трехдневный срок покинуть данную местность. Требование повторялось троекратно. Если звери подчинялись, возносилась благодарственная молитва, в противном случае процесс продолжался. В ходе него стороны прибегали к разного рода ухищрениям. Например, адвокаты долгоносиков, клопов-черепашек и крыс, как это случилось, например, в 1480 году в Бургундии, оправдывали неявку в суд своих подзащитных тем, что, во-первых, не все священники в своих приходах объявили об их вызове. Ведь они – начал свою знаменитую речь адвокат Бартолми-Шасоне, – живут по всей стране в глубоких норах и не слышали о начале уголовного процесса против них. Кроме того, они живут на обширной территории и им нужно больше времени на сборы и дорогу, особенно беременным и пожилым. Суд согласился с доводом защиты и постановил пройтись по всем населенным пунктам округи и оповестить мышино-крысиное население. Более того, для донесения информации избрали самое верное средство, – зачитали ее в церквях по всему епископству. Понятно, что воскресную службу любая добропорядочная крыса должна была посещать.
Увы, и следующее заседание крысы проигнорировали. На то были свои веские причины. Во-первых, заявил адвокат, времени для ознакомления с материалами дела даже самым образованным крысам было явно недостаточно. А, во-вторых, подзащитные не без оснований опасались неспровоцированного нападения со стороны агрессивно настроенных котиков, которым, ведь, тоже известно время и место судебного заседания. Они, мол, совсем недавно несколько «ответчиков» уже приговорили. Так что неявка вовсе не означает проявление неуважения к суду со стороны крыс. Они-то как раз суд очень даже уважают, но опасаются за свою жизнь20. (В соответствии с нормами действовавшего права ответчик должен был иметь возможность явиться в суд без риска для собственной жизни и здоровья).
На третьем заседании защитник задал суду вопрос: а как вы отделите злоумышленников от невинных, честных крыс, которые никогда не вредили людям и могут пострадать из-за огульного обвинения? Суд долго размышлял над этой непростой головоломкой и в итоге принял решение… в пользу крыс!
В средние века немало животных за плохое поведение «мотало срок»
Но все же обычно, после долгих прений, мыши-полевки, крысы и всякие клопы-черепашки проигрывали. Иногда вина была столь ужасающа, что их даже предавали анафеме21 (отлучение от церкви считалось тяжким наказанием, и применялось далеко не всегда), – после чего торжественное шествие с крестом, знаменами и свечами отправлялось на виноградники и поля, кропя их святой водой. Во время крестного хода пелись молитвы, а червей, мышей и клопов именем Бога-Отца, Христа и Святаго Духа заклинали удалиться в места, где они никому не смогут навредить. Нередко, в ходе процесса сторонам удавалось выработать компромиссное решение, устраивающее всех. В нем уже были юридически оформлены новые территории, выделяемые животным для проживания. Им даже выдавалась охранная грамота, не говоря уже об оформлении всех документов на землеотвод. А детенышам и беременным самкам предоставлялась отсрочка в исполнении приговора. Применялись ли такие послабления в отношении насекомых, история умалчивает22.
Однако в большинстве случаев подсудимыми выступали домашние животные и чаще всего – свиньи. Память о казненных свиньях все еще жива, – одно из предместий Парижа до сих пор носит название «Повешенная свинья». Хотя приговор далеко не всегда был обвинительным. Так, например, 10 января 1457 года суд в Савиньи оправдал пять поросят, поскольку их участие в преступлении осталось недоказанным. Они были переданы под опеку в местный женский монастырь.
Но бывало, что судили и вовсе почти неразумных тварей. Например, жуков-вредителей «вишневых слоников», обглодавших сады общины Сен-Жюльена. В своей речи их адвокат убеждал суд, что они не только Божьи твари, но и в определенном смысле избранные, поскольку были в свое время на Ноевом ковчеге, а потому заслуживают снисхождения. Обвинение засомневалось и запросило дополнительную экспертизу по поводу ковчега. Пока шло препирательство проклятый жук никуда уходить не торопился и как ни в чем не бывало продолжал «столоваться». Теперь уже с полным юридическим основанием. Наконец судья постановил переселить его в другую местность и даже выписал документ на право владения новой «недвижимостью» на территории старого карьера. Но тут уже возмутились крестьяне: «мы, – говорили они, – привыкли ходить по этим землям, а жуки могут воспрепятствовать нам, т.к. это теперь их собственность». Суд продолжил работу, и в качестве компромисса разрешил людям ходить по территории жуков, но только осторожно, чтобы не потревожить подлинных хозяев этой земли23. Но тут воспротивился ответчик, чей адвокат заявил о прямой угрозе жизни и здоровью своих подзащитных, вследствие совместного пользования территорией. Они ведь попросту могут быть раздавлены местными жителями. Чем закончился процесс нам неизвестно, но он продолжался более 40 лет, – с 1445 по 1487 год! С учетом длительности можно констатировать беспрецедентную моральную победу «вишневых слоников», – самую славную во всей истории этого вида «тварей Божиих».
Прекрасный пример (правда, несколько иного рода) ведения на равных переговоров с животными являет собой история св. Франциска. Он выходит из города, где остановился, и направляется для диалога с волком. В ходе него он предлагает серому ежедневное снабжение провиантом в обмен на отказ от нападения на животных и жителей города. Вот как описывается процесс достижения этого соглашения:
«…Но если я добьюсь …этого для тебя, ты должен обещать, со своей стороны, никогда больше не нападать ни на животных, ни на людей. Обещаешь ли ты это?». Тогда волк склонил голову в знак того, что он согласен. Святой Франциск заговорил вновь: «Брат волк, можешь ли ты дать мне залог твоей искренности, чтобы я поверил твоему обещанию?» И протянув руку, он получил ручательство волка, который поднял лапу и дружески вложил ее в руку Святого Франциска, давая единственный залог, какой был в его силах (т.е. волк совершил ритуал вассальной присяги) … Тогда все люди в один голос пообещали кормить его до самой смерти… Волк прожил в Агуббио два года. Он свободно ходил из дома в дом, никому не вредя, и все люди приветливо принимали его, кормя волка с великим удовольствием, даже собаки не лаяли на него, когда он проходил мимо. Наконец, через два года, «серый» умер от старости, и жители сильно оплакивали эту потерю. Его похоронили по-христиански, а небольшой волчий саркофаг с крестом по сей день можно наблюдать в местной церкви Санта Мария де ла Виттория. Выбитая на ней надпись гласит: «Здесь Франциск усмирил волка».
Переговоры с животными и даже насекомыми, представление их в качестве равноправной стороны процесса просуществует очень долго. Подобные прецеденты встречаются и в XVII, и даже в XVIII веке (последние известные нам случаи: в Пон-дю-Шато в Оверни в 1718 году, в районе Безансона около 1735 года, а также в Словении в 1866 году (!). В последнем случае местные жители, не сумев прийти к судебному компромиссу с саранчой, приговорили ее к смерти – и отправились на поле истреблять насекомых.).
*** *** ***
Такие «равноправные» и, более того, личностные отношения с миром животных существовали не только на средневековом Западе, но и на Востоке. Причем на Востоке они сохранялись значительно дольше. Вот что пишет, пожалуй, самая выдающаяся фигура последних веков в чань-буддизме Сюй Юнь (умер в 1957 году): «…пришел монах из храма Инсян, чтобы сказать мне о том, что кто-то у них там выпустил петуха, и что птица эта агрессивная. Я отправился в этот храм и подробно объяснил птице правила поведения в монашеской среде и ее заповеди, а также научил ее произносить имя Будды. Вскоре петух перестал драться и сидел в одиночестве на ветке дерева. Он больше не убивал насекомых и ел только тогда, когда ему давали зерно. Через некоторое время всякий раз, когда слышал звон колокола и гонга, он шел за монахами в главный зал и после каждого молитвенного собрания возвращался на ту же ветку дерева… в конце концов он прокукарекал: „Фо, Фо, Фо“ („Будда“ по-китайски). Два года прошло с тех пор, и однажды после молитвенного собрания петух встал во весь рост в зале, вытянув шею. Он трижды взмахнул своими расправленными крыльями, будто собираясь произнести имя Будды, и умер стоя. В течение нескольких дней его внешний вид не менялся. В конечном итоге его положили в коробку и похоронили». Удивительно, но столь доверительные отношения с обычным петухом были возможны в чаньских монастырях Китая еще в начале ХХ века. А безвестная птица даже удостоилась проникновенных строк от великого мастера:
…Он внял запретам, и бешеный ум затих,
Ел лишь зерно, сидел на насесте один, не трогая даже букашки.
Взирал на золотой образ
И без труда кукарекал имя будды.
После трех кругов простираний вдруг отошел в мир иной,
Разве все существа отличны чем-то от будды?
*** *** ***
Мы уже говорили, что природа виделась средневековому человеку огромным хранилищем символов. Минералы, растения, животные, – все было символами. Поэтому каждое животное, его поведение, повадки воспринималось как отблеск чего-то высшего, запредельного, как часть замысла Божьего, частичка Вселенной, в которой таится нравственное, моральное значение. Любое конкретное животное – это образ, зачастую фантастический. (Но фантастический – это с нашей сегодняшней точки зрения, в те времена никто его фантастикой не считал).
Отсюда вытекало совершенно иное, по сравнению с современным, отношение к миру. Мир – как дом, а не как бездушное, часто враждебное тебе существо. Ты не покоряешь его как альпинист гору, ты живешь в ладу с ним. Человек в нем сосуществует, находится в непрерывном взаимодействии с произведениями Творца, и сам становится Им, только в миниатюре; несовершенным, но стремящимся к идеалу.
Искусственный мир технологий и массового производства, убивший индивидуальность, еще не пришел, поэтому очень часто вещи носят собственные имена. Вот Роланд, умирая на поле боя, трубит в рог, призывая Карла. Но это не просто рог, один из тысяч подобных, – это Олифант. В руке героя не просто обычный меч – продукт массового производства. Это Дюрандаль – верный спутник, вещь почти сакральная. Замок, в котором живет Роланд, как и любой другой сеньор, тоже имеет имя. И не только замок. Дома простых людей на узеньких улицах средневековых городов тоже зовут по-своему. Мы об этом уже говорили.
Не будем забывать, что каждая вещь уникальна. Мастер вкладывает в нее частичку своей души. А потому вещный мир как совокупное творение мастеров и мир природы как творение Бога вместе окружали человека, включая его в свой универсум. Поэтому он даже в океане на утлой лодке, как ирландский монах, никогда не был брошенным, оставленным.
Но для символической трактовки Сущего очень важным было правильно понять происхождение названия, ведь назвать для средневекового человека означало тем самым объяснить. Например, верблюд выводится из греческого «смиренный», ибо он должен опуститься на колени, чтобы принять свою ношу. Пантера – из греческого «все», ибо она – друг всех животных. Паук – от латинского «из воздуха», так как он питается воздухом…
В этом отношении средневековые книги – бестиарии – это и энциклопедии известных животных, и сборники нравоучений, и указатели символических значений, связывающие чувственный и высший миры, а также увязывая их с общим замыслом Божиим. Причем подчеркивается двойственность каждого символа, ибо «двояко каждое творение, хотя бы в нем предполагали зло, но и добро обретается». Исключительно глубокая мысль безвестных авторов бестиариев, перекликающаяся с «Фаустом» Гете. Сравните: «Я – часть той силы, что стремится к злу и вечно совершает благо».
Так, змея воплощает зло, но она же и символ мудрости; страус, забывающий яйца в песке, – образ губительной безответственности, но он же сравнивается и со святым отшельником, покидающим родных ради созерцательного одиночества в пустыне…
Но самое разительное противоречие являет собой лев. Царь зверей. Символ Христа и евангелиста Марка. Он всегда спит с открытыми глазами, уподобляясь Христу в склепе, человеческая оболочка которого покоится, но божественная природа бодрствует. Он заметает хвостом следы, чтобы сбить с толку охотников, как Христос, который скрывает свою божественность, во чреве Марии перевоплощается в человека, чтобы ввести в заблуждение Дьявола. Кроме того, он величествен, исполнен отваги и великодушия. Он единственный, кто не боится даже мантикоры, – страшнейшего зверя с туловищем льва, хвостом скорпиона и головой человека. Он – самый быстрый на свете, да еще обладает тремя рядами острейших зубов. Зато царь зверей боится левтофоноса, – самого мелкого грызуна, одного запаха которого достаточно, чтобы лишить льва жизни.
Не удивительно, что львы пользовались огромной популярностью. Живые были главными «звездами» зверинцев королей и прочих титулованных особ, центром внимания зевак на ярмарках; искусственные встречаются повсюду в виде рисунков, скульптур, лепнины, вышивки и т. д. Их статуи по сей день охраняют памятники, могилы и входы в церкви, а также удерживают в зубах дверные ручки-кольца. В то же время вместе с аспидом, драконом и василиском лев символизирует Сатану. Ему присуща дикая злоба (иногда – гордыня, один из смертных грехов), поэтому его голова украшает порожки перед дверью.
Слон был могуч и покорен, верен и целомудрен, робок и благороден, полон мудрости и знания. Вдобавок он – непримиримый враг дракона, то есть Сатаны. Его кожа, кости и особенно бивни способны отгонять змей, отводить искушение, защищать от паразитов. Порошок из них – прекрасное противоядие. Кроме того, слон – самое умное из всех животных; у него необыкновенная память; он легко приручается, «приятен в обхождении» и, по словам некоторых авторов, может удержать на своей спине замок и даже целый город.
Крокодил представляется как огромная желтая змея с четырьмя мощными лапами, без языка и с довольно непостоянным характером. Не желая ограничить себя, крокодил ест до тех пор, пока ему не станет плохо; тогда он растягивается на песке и в течение нескольких дней не двигается, переваривая пищу. Завидя человека, он не может удержаться от того, чтобы не поймать его и не съесть, хотя обладает натурой в некоторой степени доброй и чувствительной. Именно поэтому после завершения своей зловещей трапезы крокодила охватывает раскаяние, он сожалеет о столь низком поступке и плачет много часов подряд.
Верблюд, «корабль пустыни», – воздержан, отличается исключительной выносливостью и умением испытывать привязанность. Пчела, дающая мед подобно тому, как Мария давала молоко, стала символом семьи. Рыбам свойственно сострадание, любовь к детям и особенно благочестие. Поэтому их нередко ставили в пример людям. Разные породы рыб не смешиваются, т.к. они хотят сохранить себя в чистоте, в отличие от человеческой склонности к прелюбодеянию.
Идеалом стал единорог, – символ целомудрия Богоматери и мирской чистоты24. Его рог имеет божественную природу Христа, он исцеляет и освящает, его хранят в церквах наравне с мощами самых почитаемых святых. Яростное, неудержимое, смертельно опасное и вместе с тем сентиментальное животное. Поймать его может лишь непорочная дева, к которой единорог выходит сам, кладет голову на лоно и засыпает. Вот как описывает это престранное существо позднейший писатель Питер Бигль:
«Единорог жил в сиреневых лесах, и жил он там совсем один. Он был очень стар, хотя и не знал этого. Его цвет уже не казался таким беззаботным, какой бывает морская пена, – теперь он, скорее, напоминал падающий снег в лунную ночь. Но взор его был по-прежнему ясен и неустанен, и передвигался он все так же – словно тень по волнам.
Он вовсе не походил на рогатую лошадь, какой часто рисуют единорогов, – нет, он был меньше, копыта его были раздвоены, а сам он обладал той древней дикой грацией, какой у лошадей отродясь не было. Олени лишь робко и слабо подражали ей, а у коз эта грация проявлялась только в каких-то издевательских плясках. По сравнению с длинной и гибкой шеей его голова казалась меньше, чем на самом деле, а грива, спадавшая почти до середины спины, была мягкой, как пух одуванчиков, и нежной, как усики бабочек. У него были острые уши и тонкие ноги с белым оперением у лодыжек, а длинный рог над глазами сиял и переливался собственным жемчужным светом даже в самую темную полночь. Им единорог убивал драконов, им лечил одного знакомого короля, чья отравленная рана никак не затягивалась, и им же сшибал с веток спелые каштаны для медвежат.
Единороги бессмертны. Им свойственно жить в одиночестве в каком-нибудь одном месте: обычно это лес, где есть озеро, достаточно чистое, чтобы они могли видеть в нем себя. Единороги немножко тщеславны от сознания, что они – самые прекрасные существа в целом свете и к тому же – волшебные. Вступают в брак они очень редко, и нет леса более зачарованного, чем тот, где живет единорог».
Первое из дошедших до нас упоминаний этого существа относится аж к V в. до н. э. Ктесий Книдский оставил нам его описание как животного с «белым телом, коричневой головой и голубыми глазами». Единорог известен как любимое средство передвижения волшебников и волшебниц. Это неудивительно, ведь при изгнании Адама и Евы из рая Бог предложил ему выбор, но Единорог из верности остался с людьми и покинул рай, за что получил божественное благословление.
Известно, что эти существа для своего житья облюбовали горы Гарца в центральной Германии. Там в пещере в 1663 году и был обнаружен скелет одного из них (ныне сохранился только череп). Никого это даже не удивило, ведь недалеко от той пещеры находится знаменитая гора Брокен, куда со всей Германии и из-за ее пределов регулярно на свои шабаши слетаются ведьмы, так что для тех мест сверхъестественное выглядит вполне естественно.
20
Дело закончилось тем, что целая делегация жителей во главе с мэром одного городка и епископом отправилась в поле и отловила самую жирную мышь, которую они посчитали главной. Ее-то и доставили в качестве ответчика. В суде предъявили требование: отвести своих подчиненных подальше от города. После этого последовали долгие и убедительные увещевания мышей. Но они встали на путь открытой конфронтации. Тогда делегация вернулась на поле, опять отловила мышиного короля и, доставив его в суд, предъявила уже официальное обвинение. А всем владельцам котиков суд пообещал крупный штраф, если честная крыса подвергнется нападению по пути в суд. Жителей окрестных деревень даже обязали предоставить официальные гарантии безопасности крыс, но они отказались это сделать и дело проиграли. Поле оставили мышам.
21
Хотя адвокаты постоянно протестовали, указывая, что нельзя предавать анафеме, поскольку их подзащитный ни разу не был допущен к причастию.
22
Приговоры по аналогичным делам отличаются кардинально. Так, например, в Оверни суд постановил, что так как мыши – существа маленькие, то к ним нужно проявить снисхождение. Мол, когда подрастут, тогда и будут отвечать за свои поступки. Поэтому людям (!) предписали покинуть поле и перейти на другой участок, на который мыши уже не имели права покушаться. А вот в Страсбурге по аналогичному делу суд приговорил мышей к депортации. Для этого им отвели определенное время. Удивительно, но мыши уложились в отведенный срок и исчезли из города. Правда, потом опять появились, но это уже другая история.
23
У современного человека может возникнуть вопрос: неужели люди в то время не понимали, что такой суд – балаган, и почему этот балаган повторялся сотни раз на протяжении веков на полном серьезе? Разве крысы и жуки могли выполнить решение суда? Ответим максимально коротко. Хотите смейтесь, хотите нет, но, судя по дошедшим до нас документам, более половины решений суда животные и насекомые исполняли прилежно: оставляли территории, переселялись и т. д.
24
На Руси единорог являлся символом власти. Иван Грозный использовал его в качестве геральдического знака на личной печати.